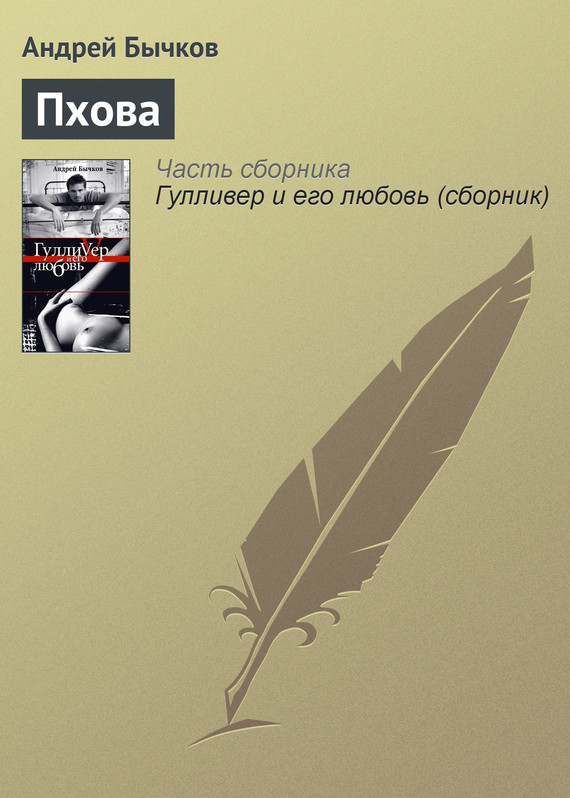у сообщил их общий приятель, которому он как-то под кайфом что-то такое сказал, что тот догадался. И потому приятелю было приятно сообщать ему и о предложении немца, и о браке, а теперь и о рождении девочки.
Глядя в эти скорбно-радостные глаза сообщающего, отводя взгляд, он подумал, что теперь эта невозможность оставляет его с ней навсегда. Её девочка, её его чужой ребенок будет расти, как смерть. Большая смерть или маленькая – это, в общем-то, всё равно, потому что для смерти все всегда остаются рядом.
Он вспомнил женщин, которые у него были после неё и ради которых он приходил сюда, к этому своему приятелю, хозяину этой квартиры, открытой квартиры для всех. Они были разными, эти женщины, но Айстэ оставалась одна, и он никак не мог об этом забыть, о том, что Айстэ – одна, да, скорее всего, и не хотел. Быть может, он и в самом деле был мазохист, так сказал ему его отец, что ему нравится умирать от любви, вот он и умирает.
Он знал, что поступил правильно, избежав этого брака, брак был бы равносилен смерти, но и отказ от союза оказался смертелен. Тогда он подумал, что, быть может, любовь – это и есть смерть. Но умирать и быть мертвым – это ведь не одно и то же.
Теперь ему оставалось только смириться и быть мертвым, если он больше не хотел умирать. Но ведь это не так просто.
Он вспомнил, как они зашли с отцом поссать в какую-то подворотню, и он рассказывал, какая она сучка и какая сучка её мать, как он расплачивался за их такси, и Айстэ пеняла ему за то, что у него не было мелких денег и ему пришлось подниматься на второй этаж, оставив их в машине дожидаться, пока он не разменяет свою последнюю десятидолларовую купюру, чтобы расплатиться с шофером, чтобы поднять потом на второй этаж её и её мать, мать Айстэ, и ждать, как швейцар, пока её мать напьется вина, чтобы увезти её обратно, потому что Айстэ не сможет увезти обратно свою мать, потому что Айстэ уйдет в ночной клуб вместе с немцем. «И ты ещё хотел на ней жениться? – усмехнулся отец, застегивая ширинку. – Ты просто мудак, да, вот что я тебе скажу».
Лежа один на диване, он вспоминал теперь эту историю по-разному – и чтобы себя обвинить, и чтобы избавиться, он пытался себя оправдать и, наоборот, очернить, пытался утешить себя этой историей и возвратиться к самому её истоку, когда все еще было так легко и ничто не предвещало такого мучительного конца.
Иногда он думал, что умирать так – это значило ещё сохранять надежду, сохранять, не предпринимая ничего, замирая и оставаясь неподвижным, как в той гексаграмме из «Ицзин». Когда он случайно увидел Айстэ с немцем в метро, как они целовались на эскалаторе, он стоял на две ступени ниже и мог дотронуться рукой, мог толкнуть или ударить этого немца, сказать ему, что это его жена, и тогда она бы стала его женой, «Айстэ моя жена», и он еле сдержался, но не только побоявшись быть смешным перед ними обоими, быть раздавленным ею, еще одно, другое, странное чувство, которое он не знал как и назвать, удержало его. Он вышел в ночь, кусая губы, не понимая и понимая, отчего так больно, и слепой, возникший внезапно из темноты автомобиль едва не сбил его, а может быть, и сбил, и это уже не он остервенело набирал на телефонном диске номер немца, зная, что Айстэ там, в его постели, и так, через немца, подавая ей знак, знак своего присутствия, ведь однажды она сказала ему, что он всегда звонит, когда вот-вот изменится судьба. Потом он захотел узнать, как быть и что это всё значит, и еще не знал другой магии, кроме «Ицзин», и бросил монеты. Тогда книга ответила, что отныне он должен замереть, застыть в своей неподвижности, и он заплакал. Это была гексаграмма номер пятьдесят два, и в комментарии к тексту указывалось на её особую значимость в буддизме.
Умирая в своем странном желании – чтобы снова что-то было между ним и Айстэ – и ничего для этого не предпринимая. Напротив, теперь при случайных встречах с ней, он держался холодно и отстраненно, удивляясь молчаливо в самом себе, что вот она, его любовь, так близко, рядом, та, которая всегда с ним, сейчас здесь, и от этого «здесь», и оттого, что это так странно, что она снова здесь, и оттого, что в этом нет ничего удивительного, быть может, от этого и не страдаешь или страдаешь не так тяжело, не так мучительно.
Он прекрасно помнил ту сцену, тогда на квартире у того своего приятеля, когда вернулся из Парижа. Он услышал её голос, который всегда его так глубоко волновал, неотделимый и отделенный от её эротизма, голос, существующий сам по себе, сам собой зачарованный и, быть может, потому чарующий других, их, других, зачаровывающий. Он перешел из комнаты в комнату и увидел её – в тонком, полупрозрачном египетском платье, красном с черными зигзагами, Айстэ, от любви к которой он умирал в этом проклятом Париже, зарабатывая франки на своем одиночестве. Она тоже увидела его и едва заметно кивнула, и он едва заметно кивнул ей в ответ. То, что они не виделись несколько месяцев после мучительного, оскорбительного для них обоих разрыва, словно ничего и не значило. Он опустился на диван рядом с чахлой женой приятеля и стал вполголоса рассказывать той про Париж, про то, что у него был там свой сад на Монмартре, где он снимал жилье, сад в четырех стенах четырех четырехэтажных домов, принадлежащий на время лишь ему одному. Краем глаза он следил за Айстэ и видел ее, Айстэ, движение, как она нарочито долго собиралась уходить и как осталась, он знал, что