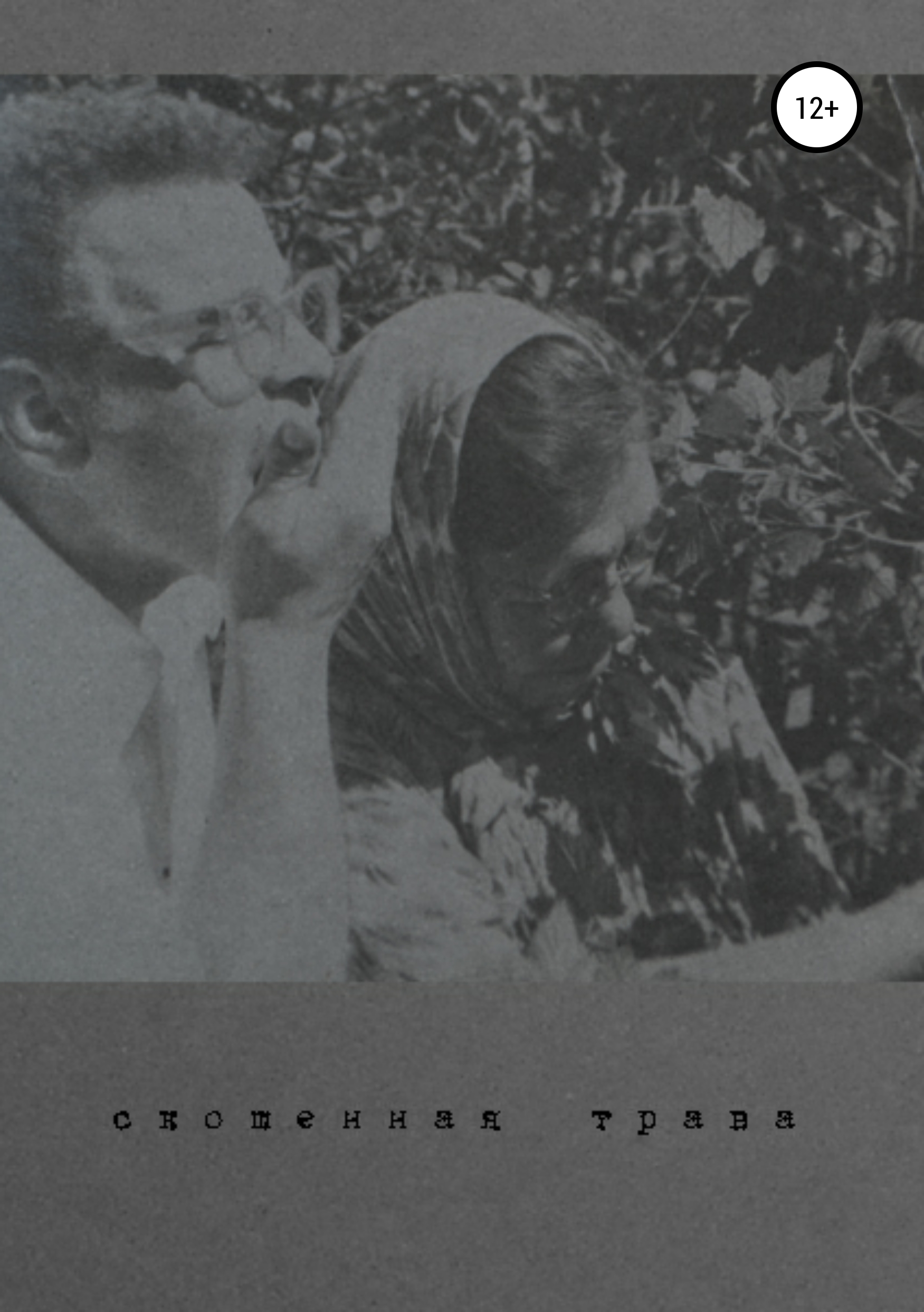е было, и он решил, что умоется после, на озере. За окном рассвело, небо покрылось бело-розовой испариной, солнце еле-еле освещало спящие за окошками занавески.
Иван Ефимович, ступая босиком, вывалился на улицу. От свежего воздуха закружило всё ещё болевшую с вечера голову. Он вздохнул, взял литовку и пошел по не остывшей за ночь земле.
Дверь глухо хлопнула – деревянная и вымокшая под дождями – она уже не была способна на большее. Сквозь себя она пропускала притупленные, будто фильтрованные запахи утра, резной свет солнца и петушиные крики. Но внутри дом ещё спал.
Пахло сыростью половиц и землей, молоком и земляникой, навозными кучами, сеном – тянувшийся с улицы воздух целовался в засос с воздухом в доме, и оттого получались такие чудаковатые переливы.
Солнце крестило своими тонкими пальцами плетеные половики, вязаные салфетки на комоде, грузный шкаф с самошитой одеждой, стулья с кривыми ножками, стоявшие отрядом иконки, где переливающиеся от бликов головы смазывались, плача взглядом, железную кровать с крахмальными подушками, на которых рассыпались волосы Нины, уже немного оккупированные сединой. Её босые пятки торчали из цветастого одеяла, и солнце как-то неаккуратно окрестило их —
Нина проснулась резко.
Как будто кто-то выдернул её из сна за ноги. Она в страхе ощупала кровать и поняла, что он уже ушёл. Рывком села и уставилась на рукомойник – ничего. Она как-то по-девчачьи вздрогнула, это сухая пятидесятилетняя женщина. Вчера перед сном она специально вылила воду из рукомойника, зная, что её муж не может без утреннего ритуала, думала, что он не уйдет, что это его остановит. Но он ушёл. Она глянула на часы – опять те же злосчастные полпятого утра.
Она сидела так какое-то время, как будто не веря, что опять наступило утро, очередное утро, без перемен, такое же, как и месяц назад. Утро-без-перемен. Обычное, жизненное – её утро.
Ну вот, сказала она как-то глухо, глядя на иконки, уже и утро для него не утро, уже и на умыться всё равно!
Она постоянно разговаривала с одним святым, который изображен был на какой-то дореволюционной иконе, она осталась в их доме – от кого, Нина не помнила. Но ей казалось всегда, будто это её отец. Она и говорила с ним, как со своим отцом – просто, по-свойски.
Иван-то опять ушел, сказала она, и её взгляд упал на гвоздь возле комода – там висел его крестик, маленький, серебристый, отливал на солнце зайчиков, качаясь на нитке. Она бросилась как-то неестественно в подушку. У неё уже не было сил его останавливать. Она просто боялась, очень боялась, но ничего не могла уже делать.
Иван Ефимович шел медленно к озеру, держа в своей жилистой руке литовку, шел босиком, как заколдованный, посреди росы и солнца, перемешанного с туманом. Он шел так, как будто точно знал, что это единственная цель его теперь, как будто был уверен, что они ему не врут.
Они-то мне точно не врут, не обманывают, говорил он потом Нине. Кто, они-то? – дрожа глазами спрашивала Нина. Хитки, отвечал Иван Ефимович. Русалки то бишь, объясняла потом Нина приезжавшему в гости сыну – боясь и почти шепотом – пока Иван Ефимович в другом углу дома читал какую-то «литературную дрянь».
Иван Ефимович каждое утро приходил и садился возле Черного озера, которое в их деревне почему-то носило дурную славу. Боялись к нему ходить даже старожилы – особенно старожилы. Как будто что-то знали и не договаривали. Он сидел там, в заросших берегах, и что-то бессвязно бормотал. Потом видел, как вода немного расходиться, становится светлее, и какой-то красивый приятный голос снова и снова говорит, желая ему доброго утра: давно никто так рано не приходил, давно никто так рано и постоянно не приходил, скоси траву, убери траву, дай нам берег, мы дадим тебе твое детство, мы дадим тебе твои спокойные мысли, твои радостные глаза, твою печальную жену, только жена печальная, а ты добрый, ты хороший, ты спокойный.
Это была его цена – он косил высоченную полынь возле озера, чтобы русалкам можно было выбираться, а они взамен забирали его тяжелые мысли. Весь в поту, посреди травы он очень ожесточенно работал – каждое утро, подолгу.
Умрешь ты, Ваня, всё равно, этого не избежать, но мы облегчим, облегчим, коси только, коси… Озеро проклятое, зарастет травой-полынью, никто и не вспомнит про нас, коси, Ваня, коси… Это дьячок-дурачок посадил когда-то, изжить нас хотел… дьячок-дурачок дьячок-дурачок дьячок-дурачок…
Под эту песню Иван Ефимович и косил. Но трава вырастала за день заново, и потому, когда Иван Ефимович приходил на следующее утро – опять оказывался чуть ли не с головой в траве, и опять садился ненадолго в ней, прямо у берега и слушал: здравствуй, Ваня, давно никто так рано не приходил, не уважил никто, коси, Ваня, коси поскорее, мы вчера нагулялись на берегу, коси, Ваня, коси, под корень коси…
Иван Ефимович поджигал ботву, ложился на землю, а они медленно выползали из воды и окружали его, слизывали его слезы, стирали его печали, проводя рукой по лицу – и он забывал все ужасы, которые видел на войне, он забывал всё, что случилось с ним после, он забывал своих умерших детей, он забывал всё на свете – и чувствовал только себя-мальчика, валяющегося в траве, где-то