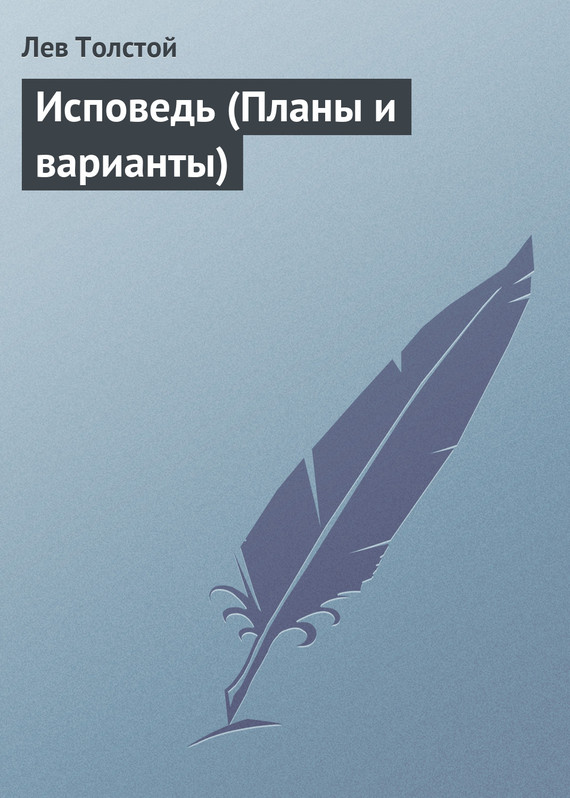женщины. Третья тетка, под опеку которой мы перешли, когда мне было 12 лет, и которая перевезла нас в Казань, была тоже добрая женщина (так все знавшие ее говорили про нее) и очень набожна, так что кончила жизнь в монастыре, но легкомысленная и тщеславная. В Казани под ее влиянием я поступил в университет, пробыл три года и вышел, сделавшись независимым, и приехал в доставшуюся мне деревню. Воспитан я был в православной христианской вере. Меня учили ей и о детства, и готовя к экзамену, и в университете. Но в 20 лет уже, сколько мне помнится, ничего не оставалось из моих верований, если только можно так назвать то, чему меня учили в детстве и в школе. Помню, что когда мне было лет 11, один мальчик, товарищ, бывший в гимназии, объявил нам раз, что бога нет, и мы все приняли это известие, как что-то новое, занимательное и весьма возможное, хотя и не поверили ему. Помню потом, что весной, в день первого моего экзамена в университет, я, гуляя по Черному Озеру, молился богу о том, чтобы выдержать экзамен, и, заучивая тексты катехизиса, ясно видел, что весь катехизис этот – ложь. Не могу сказать, когда я совсем перестал верить[2]. Отречение от веры произошло во мне, мне кажется по крайней мере, несколько сложнее, чем, как я вижу, оно происходит поголовно во всех умных людях нашего времени[3]. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так, что знания самые разнообразные и даже не философские – математические, естественные, исторические, искусства, опыт жизни вообще (нисколько не нападая на вероучение) своим светом и теплом незаметно, но неизбежно растапливают искусственное здание вероучения. Вероучение же это не участвует в жизни[4], не служит руководителем жизни, человеку в жизни никогда не приходится справляться с ним, и он сам не знает, что оно цело у него или нет; и в сношениях с другими людьми человеку никогда [не] приходится сталкиваться с этим учением, как с двигателем жизни. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением. По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда никак нельзя узнать, православно-верующий он или нет. Даже напротив в большей части случаев: нравственная жизнь, честность, правдивость, доброта к людям встречались и встречаются чаще в людях неверующих. Напротив, признание своего православия и исполнение наглядное его обрядов большей частью встречается в людях безнравственных, жестоких, высокопоставленных, пользующихся насилием для своих похотей – богатства, гордости, сластолюбия. Без исключения все люди власти того времени, да и теперь тоже, искренно или неискренно исповедовали и исповедуют православие. Так что в жизни, как руководство к нравственному совершенствованию, православная вера не имеет никакого значения; она только внешний признак. Даже само православие в связи с властью чувствовало и чувствует это. Оно требовало тогда и теперь требует внешнего исполнения обряда. В школах учат катехизису, гоняют учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельства в бытии у причастия.
Так что, как теперь, так и прежде, вера детская, вместе с насильно напущенными вероучениями, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противуположных вероучений, и когда приходится человеку вспомнить об этом вероучении, вдруг оказывается, что на том месте, где оно было, уже давно пустое место. Мне рассказывал мой брат, умный и правдивый человек. Лет 26-ти уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой с детства привычке, стал вечером на молитву. Это было на охоте. Старший наш брат Николай лежал уже на сене и смотрел па него. Когда Сергей кончил и стал ложиться, Николай сказал ему: «А ты еще всё делаешь этот намаз?» И больше ничего они не сказали друг другу. Брат Сергей с этого дня перестал становиться на молитву и ходить в церковь. И вот 30 лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он поверил брату, а потому, что это было указание па то, что у него уже давно ничего не оставалось от веры, а что оставались только бессмысленные привычки. Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования и говорю о людях правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. (Это – люди самые коренные неверующие; потому что если вера для него средство для власти, для денег, для славы, то она уже не вера.) Люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни уже растопил искусственное здание вероучения, но они еще не заметили этого, или уже разъел, и они заметили и не то что отбросили – отбрасывать нечего, – а освободили место, или еще не заметили этого. Такая была та самая тетушка, которая воспитывала нас в Казани. Она всю жизнь была набожна. Но когда 80-тя лет она стала умирать, то она не хотела причащаться, боясь смерти, сердилась на всех[5] за то, что она страдает и умирает, и, очевидно, тут только, перед смертью, поняла, что всё то, что она делала в жизни, было не нужно.
Искусственное здание вероучения исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, которая бывает у людей пытливого ума, склонных к философии. Я с 16 лет начал заниматься философией, и тотчас вся[6] умственная постройка богословия разлетелась прахом, как она по существу своему разлетается перед самыми простыми требованиями здравого смысла,