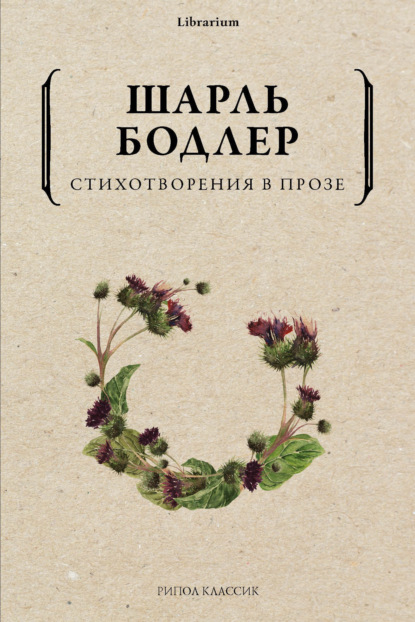с беспощадной и утонченной правдивостью в этих произведениях, могла быть понятна лишь немногим. Вышедший еще при жизни его, в 1857 г., сборник его стихотворений под оригинальным и дерзким для того времени заглавием «Цветы зла», вызвал судебное преследование со стороны правительства Наполеона III и произвел впечатление скандала. Блюстители традиционной морали усмотрели в этой книге проповедь безнравственности, апологию зла. Представители академической литературы негодовали и недоумевали: поэт представлял собою в их глазах какую-то новую, непредусмотренную ими разновидность литературной ереси. Романтик по своим вкусам, по характеру воображения, влекущегося ка самым необыкновенным темам и преображающего в нечто фантастическое всякий клочок наблюденной действительности, Бодлер в то же время ошеломлял смелостью своих лирических признаний, вскрывающих человеческую душу – его собственную человеческую душу – в ее самых интимных, жгучих и утонченных ощущениях, в наиболее удаленных от сознания центрах ее сладострастной любви к жизни, сменяющейся отвращением к жизни. Он поражал своим стилем – «стилем декаданса», по выражению Теофиля Готье, – передающим и тончайшие гармонии, и кричащие диссонансы человеческих переживаний, иногда благородно-простым и деликатным, иногда ярко-красочным, чувственным, экзотически-образным, иногда логически-беспощадным и едким или парадоксальным и кощунственно-дерзким. И при всем том этот своеобразный поэт, этот предтеча декадентов проявлял необычайную требовательность к себе в своей художественной работе, любил строгую форму сонета и как истинный классик добивался безусловной точности каждого слов необыкновенной сжатости каждой фразы.
«Цветы зла» вызвали сенсацию, заставили наиболее значительных, и чутких писателей-современников признать Бодлера первоклассным мастером, создали ему группу фанатических приверженцев из литературной молодежи, но большая часть публики не поняла и не оценила этой книги, в которую поэт, по его собственному признанию в одном из опубликованных писем, «вложил все свое сердце, всю свою нежность, всю свою религиозность – в замаскированном виде, всю свою ненависть».
Такова же была судьба его «Стихотворений в прозе», часть которых еще при жизни его печаталась в разных журналах и газетах и которые были оценены во всем их поэтическом значении лишь такими проницательными критиками, как Сент-Бев. Статьи Бодлера об искусстве – о живописи, музыке и поэзии, составившие в посмертном издании два тома под названием Curiosités ésthétiques и Lart romantique, эти изумительные критические статьи, полные тончайших замечаний и бессмертных афоризмов о сущности искусства и художественного творчеств тоже не могли создать Бодлеру популярности. Острый, сильный и беспокойный ум его, отвергающий все банальное, все, отмеченное дешевым успехом, смотрел в глубину всякой проблемы и на десятки лет опережал суждения современников. Истинный аристократ в своих непосредственных художественных вкусах, Бодлер-критик обходил презрительным молчанием самых авторитетных людей своего времени и как неустанный искатель правды и красоты высшего порядка, отмечал своим вниманием гениев, одиноко борющихся за свои художественные методы и идеи. Тогда беспощадный и ядовитый судья превращался в страстного защитника, в фанатического приверженца и преданного и великодушного друга гонимых или незамеченных толпой. Он одним из первых в Европе оценил значение Рихарда Вагнера, и его статья о «Тангейзере» явилась для творца новой музыкальной драмы по его собственному свидетельству в письме к Бодлеру высшей отрадой и лучшим ободрением в этот первый период его творческой работы и борьбы. По нескольким небольшим новеллам Бодлер сразу угадал всю глубину родственного ему таланта Эдгара По, еще совершенно неизвестного тогда в Европе, и своими бесподобными переводами и своими проникновенными статьями сделал его произведения достоянием европейской литературы. В заметках о живописи он прославлял Делакруа, на которого со всех сторон сыпались ожесточенные нападки, страстно защищал оплеванного критикой Эдуарда Манэ, раскрывал значение неоцененных до него гениальных рисунков Домье.
Но чем острее был его взгляд, чем смелее выдвигал он осмеянных современниками людей будущего, чем суровее судил об эфемерных увлечениях своей эпохи, тем непонятнее, тем неприятнее был он для буржуазной толпы и для банальной критики, создающей репутацию писателя.
К тому же его мысль, точно также как его поэтическое воображение, постоянно возвращалась к самым рискованным темам: ее манили неисследимые пропасти порока, первозданного зла и патологических влечений человеческой души. В ярких, волнующих словах описывал он в своих этюдах действие гашиша и опия, соблазны искусственных упоений, и читатели были несклонны верить искренности того сурового приговора, какой он выносил этим расслабляющим волю опытам: они чувствовали, что поэт сам не миновал этих искушений, но той борьбы, которая разыгрывалась на этой почве в его душе, они не угадывали. Жизнь его прервалась слишком рано, и наиболее глубокие его мысли, самые значительные из его художественных планов, в том числе потрясающий своей силой, простотой и психологической глубиной замысел драмы «Пьяница», сохранились лишь в беглых набросках. И над могилою непонятого поэта, из рассказов друзей о его склонности ко всяким мистификациям и непроверенных