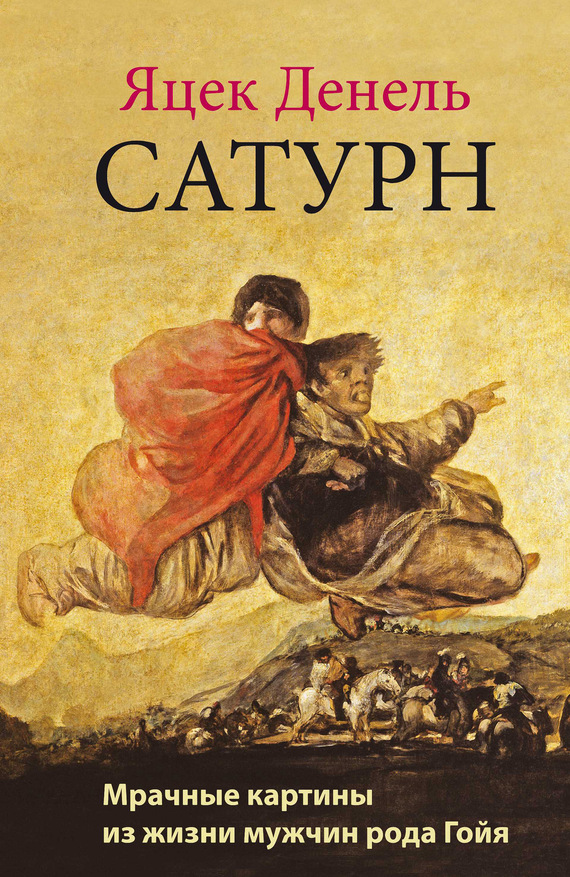о каких-нибудь восемь-десять лет, я, затаившись в чулане, услышал, как наша кухарка рассказывала точильщику ножей, откуда взялось такое название: давным-давно четверо красавцев махо[2] гнались по нашей улице за прелестной девушкой, прямо вот тут, под окнами нашего дома, он тогда еще здесь не стоял, мимо лавчонки с благовониями и золотыми медальонами, ее еще в то время не открыли, а в ней еще не держал торговлю старый дон Фелисиано, поскольку даже его в ту пору не было на свете; а девушка бежала без оглядки, а махо гнались за ней, пока не поймали; а распалены были так, что все платье на ней изорвали, сдернули мантилью и прикрывающую лицо шаль – и оцепенели. Под атласом и камкой скрывалось вонючее тело и обтянутый ссохшейся кожей, оскаливший желтые зубы череп. Бросились они врассыпную, а тело вместе с ленточками и оборками в тот же миг в прах обратилось, и с тех пор нашу улицу называют улицей Разочарования.
Так говорила кухарка – крепко сбитая, раскрасневшаяся, освещаемая снопами искр, стояла она подбоченясь (я все видел сквозь замочную скважину), а точильщик, не знавший истории, поскольку был откуда-то издалека, не из Мадрида, раз за разом прикладывал к вращающемуся камню всё новые ножи и ножницы и все поддакивал, что-то бормоча себе под нос между одним скрежетом железа и другим. Но отец (я в этом абсолютно убежден, даже если он никогда открыто не сказал такого, даже если никогда такого не выплеснул мне на голову вместе с иными упреками и оскорблениями) всегда считал, что улица называется так потому, что в стоящем на ней доме, в алькове на втором этаже, в квартире портретиста и вице-директора Королевской шпалерной мануфактуры[3] «Санта Барбара», а вскоре и придворного живописца Франсиско Гойя-и-Лусьентес пришел на свет я, Хавьер.
Когда родился Хавьер, а было это еще на улице Десенганьо[4], старшие дети уже поумирали: и первородный Антонио, и Эусебио, и малый Винсенте, и Франсиско, и Эрменхильда, Марии де Пилар не помогло даже имя нашей Сарагосской Пресвятой Девы, которой мы препоручили заботу о ней. Я сроду не говорил об этом Хавьеру, в те времена я старался не баловать детей, хотел воспитать сына настоящим мужчиной, не то что сейчас – сердце размякло, как у старого хлюпика, чуть что – слезы, к тому же я глух как пень, впрочем, глухота помогает вынести детский визг; так вот, я никогда не говорил об этом Хавьеру, но, когда Пепа[5] родила его и когда лежала в постели измученная, с черными прядками волос, прилипшими к влажному лбу, на который из окна падал свет, и он блестел, будто от свинцовых белил, я выскочил на улицу и всем знакомым и незнакомым кричал, что нет ничего прекраснее в Мадриде, чем вид нашего малыша.
После него мы старались и дальше, считаясь с тем, что и он может у нас не задержаться. Моя, царствие небесное, женушка, Хосефа Байеу, или попросту Ла Пепа, если не наряжалась, то лежала в постели – либо после родов, либо с кровотечениями после выкидышей, совсем как королева Мария-Луиса, – один мертвый ребенок за другим. Как-то я даже попытался посчитать, сколько таких разов было, и вышло двадцать или что-то около того. Но, как назло, выжил только Хавьер. Как назло, только он, и, как назло, только один.
II. Старики[6]
Старость отвратительна. С ее запахами, внешним видом. Со слезящимися глазами, воспаленными веками, облысевшими ресницами и бровями, с обвислой кожей и лишаями. С жадностью, с какой высасывает она из человека последнее, что у него осталось, с ее обжорством, когда накидывается на миску с громким чавканьем.
Говорят: хорошо состариться вдвоем. Будто вдвоем превращаешься в червивую, шелудивую плоть изящнее, чем в одиночку. Самый страшный на свете шабаш – шабаш старости, на который молодежь не слетается, а приползает, наложив на гладкое лицо изрытую морщинами маску.
Глаз, столь же слабый, как и остальное тело, замечает только разительные контрасты: светлое пятно на носу, над темным мазком беззубой ухмылки, черные, трупные тени под нависшими надбровными дугами, а возле них светлые отметины щек и лба. Блеск серебряной ложки над тарелкой, хлипанье, костлявые пальцы, выглядывающие из мрака широкого рукава. И черные, расширенные от алчности зрачки посреди белков вытаращенных глаз. Обожраться жизнью, пока ей не пришел конец.
С каким же отвращением смотрим мы на своих родителей, когда превращаются они в вылинявших, ненасытных диких животных, в испорченные механизмы и дырявые сосуды.
С каким же непониманием смотрим мы на наших детей, когда видят они в нас вылинявших, ненасытных диких животных, испорченные механизмы и дырявые сосуды. Там, глубоко внутри, мы по-прежнему все те же: тот же молодой тщеславный паренек, что налегке отправляется в большой город, или та же молоденькая, смазливая девушка, что говорит: «Эй, жизнь, мы еще посмотрим, кто кого!»
III
Хорошо ему там, в своей Франции[7]. Мне тут обо всем рассказывают. Сидит довольный собой, вдали от могилы благоверной, тоже мне вдовец, старый лис, разжиревший барсук, глухарь потасканный, и пишет дребедень какую-то, какие-то миниатюрки на кости