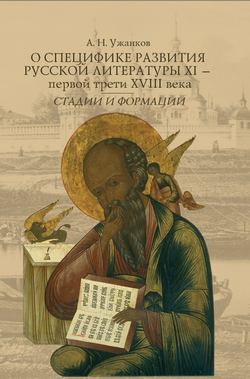О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII века: Стадии и формации
окраску и связаны с предшествующей традицией исторического повествования»[47].
Этой же точки зрения придерживается и В. В. Кусков: «В XIV–XV вв. эмоционально-экспрессивный стиль первоначально охватывает только агиографическую литературу, а исторические повести написаны в стиле, который можно условно назвать «фактографическим». Здесь уместно поставить вопрос о развитии местных областных стилей письменности: новгородского, тверского, муромо-рязанского, московского. В XVI в. происходит процесс слияния областных стилей в единый общерусский стиль официальной литературы, названный Д. С. Лихачевым стилем второго монументализма. Однако наряду с этим стилем формируются стили, связанные с публицистикой. В них широко используется аллегория, изображается быт и все более значительную роль начинает играть художественный вымысел»[48].
Близкое к приведенному мнение высказывал и В. А. Грихин: «В литературе XVI в. ведущая роль принадлежит не стилю идеализирующего биографизма, а публицистическому, поскольку публицистические жанры являются ведущими в литературе этого времени»[49].
«В XVII в. под влиянием общего процесса обмирщения культуры окончательно разрушается стиль монументального историзма и возникает беллетристический стиль. В литературе, создаваемой в посадских слоях населения, стиль демократизируется, в придворной литературе он приобретает большую книжную искусственную изощренность»[50].
К этому остается добавить, что обнаруженный у Аввакума «стиль патетического опрощения человека» никак нельзя распространить на всю эпоху, то есть XVII век, к тому же и Д. С. Лихачев указывает на присутствие рядом с ним еще двух стилей.
Да и сам исследователь признавал «немало… «исключений» из господствующей стилистической системы», причем «этих исключений в литературе, пожалуй, не меньше, чем признаков господствующего стиля, но они сами по себе не составляют еще нового стиля и не отменяют господствующего стиля как системы»[51]. Но если обнаруживается столь значительное количество «исключений», то правомерно ли говорить о «господствующем стиле как системе», да и вообще – о системе?
Логичнее предположить, что система должна охватывать весь выделяемый период, включая в себя и «исключения», подготавливающие новую систему нового временного периода. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что, при типологической схожести эволюции художественных процессов в литературе и изобразительном искусстве, выделенный исследователем «стиль эпохи» проявляется порой только в литературе и отсутствует в живописи. Правомерна ли тогда вообще постановка вопроса о стиле эпохи? По сути дела речь должна идти не о «стиле эпохи», а о типологическом стиле, проявляющемся на ограниченном отрезке времени и только в определенных жанрах словесности и изобразительного искусства.
Совершенно очевидно, что «стиль эпохи» – категория, искусственно выделенная исследователями, поскольку не дает