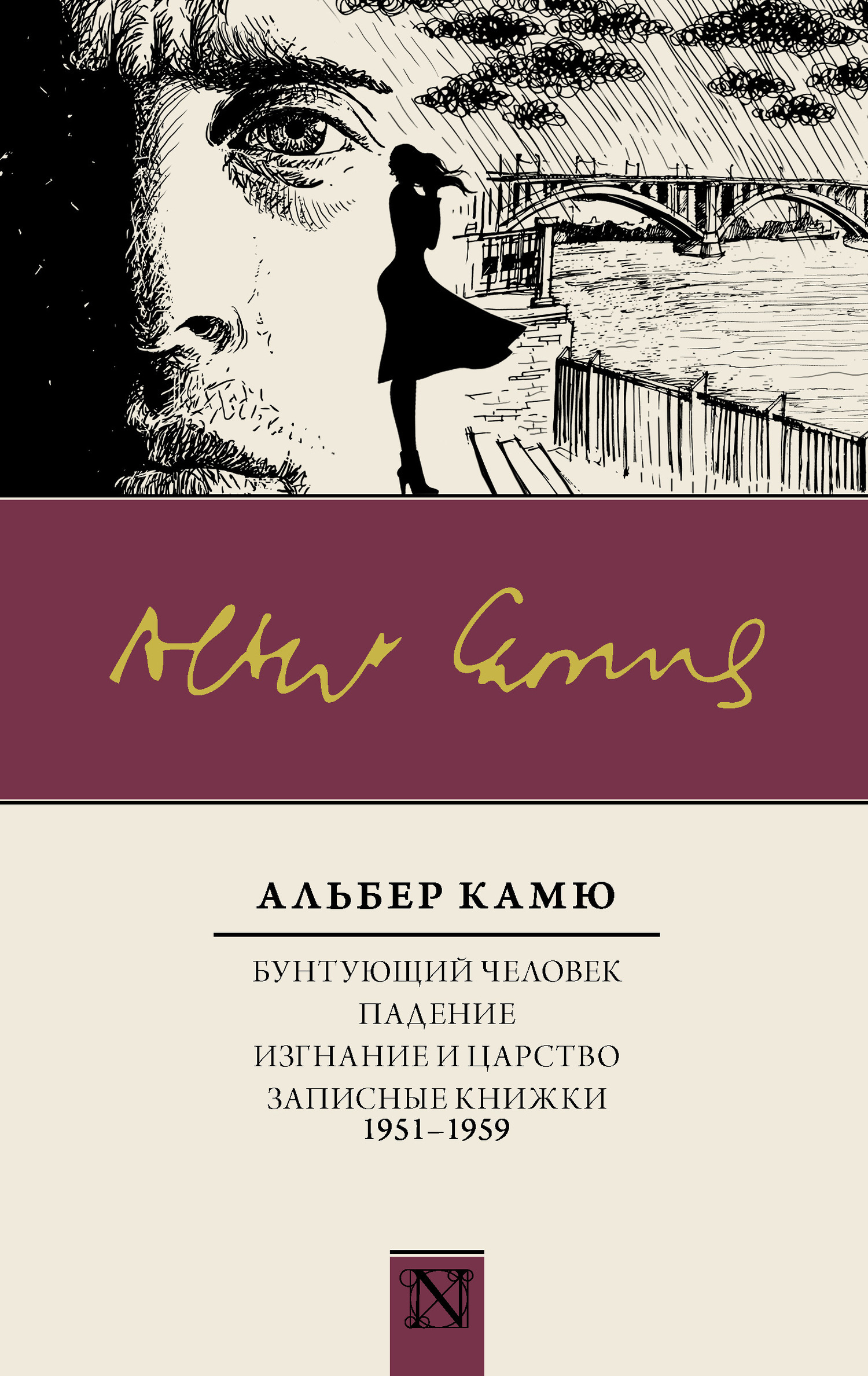против них же. Всякая власть стремится к тому, чтобы стать единоличной. Опять надо убивать, теперь хозяева должны схлестнуться между собой. Сад понимает неизбежность этого и не намерен отступать. В основании бунта начинает просвечивать своего рода порочный стоицизм. Бунтарь не делает попыток смягчиться и вернуться в мир компромисса. Он не опустит подъемный мост и примет личное уничтожение. Разнузданная сила отрицания в своем крайнем выражении сливается с безусловным согласием, по-своему не лишенным величия. Хозяин готов в свою очередь стать рабом, а может быть, даже стремится к этому. «И эшафот станет для меня троном сладострастия».
Таким образом, величайшее разрушение совпадает с величайшим утверждением. Хозяева бросаются друг на друга, и здание, воздвигнутое во славу разврата, оказывается «усеяно трупами распутников, погибших в расцвете талантов»[9]. Выживет сильнейший, который станет Единственным, и именно его – в конечном счете себя – восхваляет Сад. Наконец-то он царит над миром полновластным хозяином и богом. Но в наивысший миг торжества его победы мечта рассеивается. Единственный смотрит на узника, чья безудержная фантазия его и породила, и узнает в нем себя. Он и правда один, он заперт в окровавленной Бастилии, воздвигнутой вокруг неутоленного сладострастия, отныне лишенного объекта. Триумф ему лишь пригрезился. Десятки томов, наполненных жестокостями и философией, в сущности, служат выражением горестной аскезы, воображаемым шествием от всеобъемлющего «нет» к абсолютному «да» и согласием принять наконец смерть, преображающим всеобщее убийство в коллективное самоубийство.
Сад был казнен заочно, точно так же он сам совершал только воображаемые убийства. Прометей выродился в Онана. Жизнь он так и закончит пленником, только не в тюрьме, а в приюте для душевнобольных, где будет с помощью подручных средств ставить для помешанных театральные спектакли. Мечта и творчество принесли ему лишь жалкое подобие удовлетворения, которое он искал и не находил в миропорядке. Разумеется, писатель может ни в чем себе не отказывать. Уж для него-то не существует никаких границ, и его желания могут быть сколь угодно беспредельны. В этом смысле Сад – идеальное воплощение литератора. Он выстроил фиктивный мир, чтобы поддерживать в себе иллюзию бытия. Выше всего он поставил «нравственное преступление, совершаемое на бумаге». Его несомненная заслуга состоит в том, что он первым в безрадостной прозорливости скопившегося гнева показал крайние последствия логики бунта, забывшего как минимум о своих истинных корнях. Эти последствия суть тотальная закрытость, всеобщее преступление, аристократия цинизма и стремление к апокалипсису. Годы спустя все они проявятся. Но, смакуя их, он, судя по всему, уперся в собственные удушливые тупики, вырваться из которых смог только благодаря литературе. Как ни странно, именно Сад направил бунт по пути искусства – его знамя подхватит и понесет дальше романтизм. Сада причислят к писателям, о