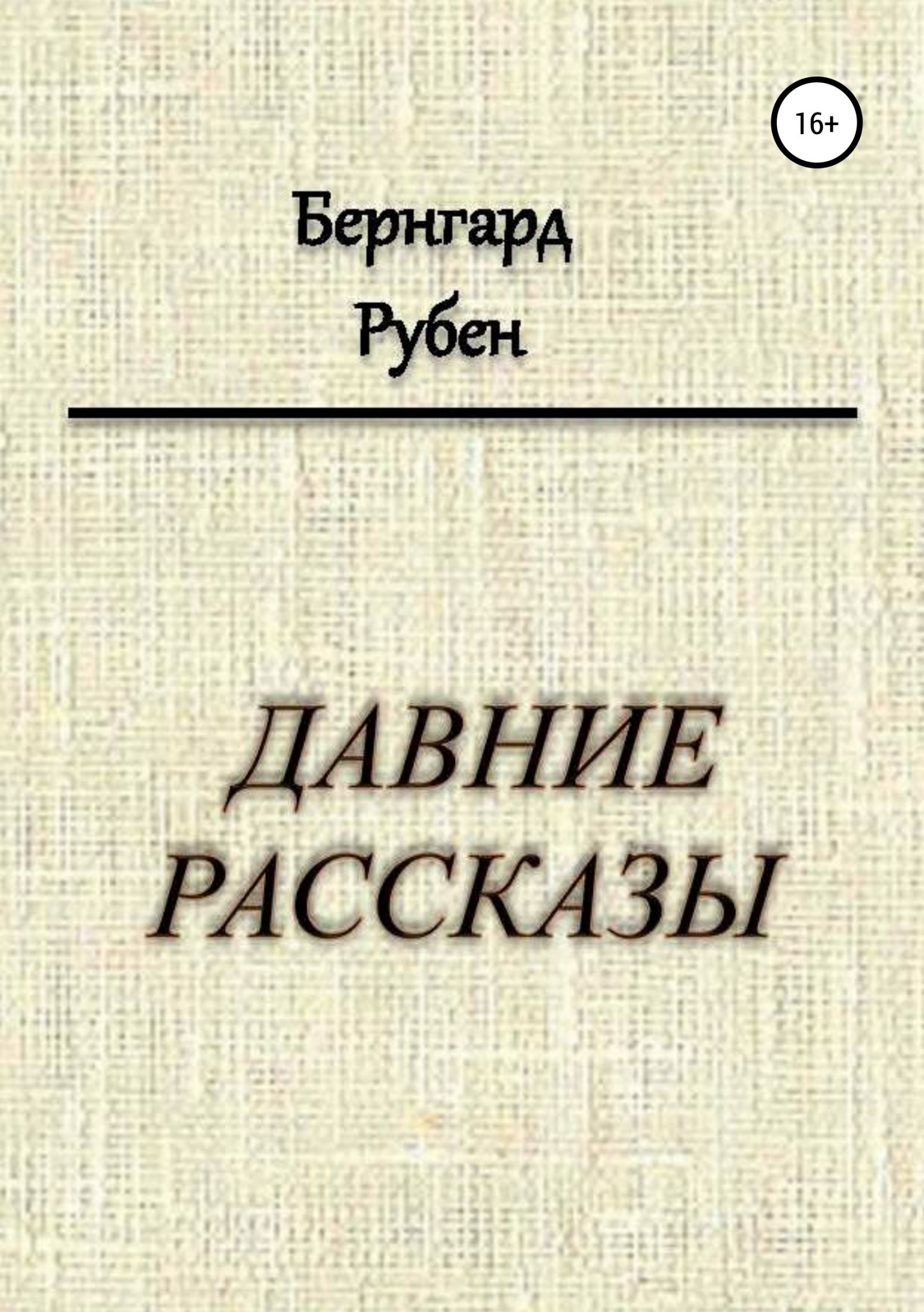по радио, страна почитала более двух десятков лет – с тех пор, как Сталин уничтожил ближайших сподвижников Ленина и подобрал вместо них нужных себе приверженцев. То были вожди, жрецы, герои, как они вдолбились в сознание миллионов людей своими вездесущими портретами, речами, ежедневным упоминанием в газетах и по радио, даже постоянным присутствием в быту, ибо их имена повсеместно носили заводы, улицы, города, колхозы, клубы… И вот эти «верные соратники» подвергались публичному бичеванию. Клеймили их, выступивших против Хрущева, как «антипартийную группу», и тем самым народу указывалось, что партию ныне олицетворяет Никита Сергеевич Хрущев. А чтобы окончательно дискредитировать его противников, вскрывали их причастность к массовым репрессиям в «период культа личности», хотя к этому же был причастен и Хрущев. Но мать не вникала в хитросплетения борьбы за власть. Она боялась самих гневных кампаний, которые при этой большевистской власти всегда предшествовали массовым репрессиям. Боялась всяких изменений, ибо они грозили новой, неизвестной и еще большей опасностью. Таков был ее многолетний опыт. На ее глазах полоса за полосой, прокос за прокосом проводились репрессии: людей преследовали то по классовому признаку – от бывших дворян до крестьян, объявленных «кулаками»; то по признаку профессиональному – от дореволюционных инженеров и прочих «спецов» до советских железнодорожников, шахтеров, военных и иных «отраслевиков», в среде которых вскрывались гнезда «врагов народа»; то по партийной принадлежности – от членов всех небольшевистских партий, существовавших при проклятом царизме, до самих большевиков, сначала троцкистов, потом зиновьевцев-каменевцев, разоблачавших вместе со Сталиным троцкистов, затем бухаринцев-рыковцев, выступавших вместе со Сталиным против зиновьевцев-каменевцев… Всеохватный заряд насилия, ненависти, энтузиазма, порожденный большевиками в октябре 1917 года, продолжал электризовать целый народ. Воистину, выходило по-ленински: строящийся у нас коммунизм был советская власть плюс электризация всей страны…
А мать боялась за свою семью, за свой дом, пусть и в коммунальной советской квартире. Она боялась за отца, который не мог жить без шуток и острот, иронически относился к догмам, официальному ханжеству, славословию и одержимости, хранил в домашней библиотеке давно запрещенные и изъятые из обращения книги и книги с дарственными надписями своих арестованных друзей, находившихся в лагерях заключенных. Она боялась за меня, десятилетнего мальчика, в тот момент, когда репрессии достигали своего пика. Она боялась долгие годы. Все годы провозглашенной «диктатуры пролетариата» – поскольку ни она, ни отец не были «пролетарского происхождения». Но повседневные заботы, продолжающаяся жизнь, человеческое достоинство и, конечно, вера в идеалы Свободы, Равенства и Братства держали ее непрестанный страх, как и у многих других людей, в глубине души.
Теперь этот страх вошел в механизм ее болезни, вырвался из-под спуда. И, еще не понимая глубинные причины такого ее состояния,