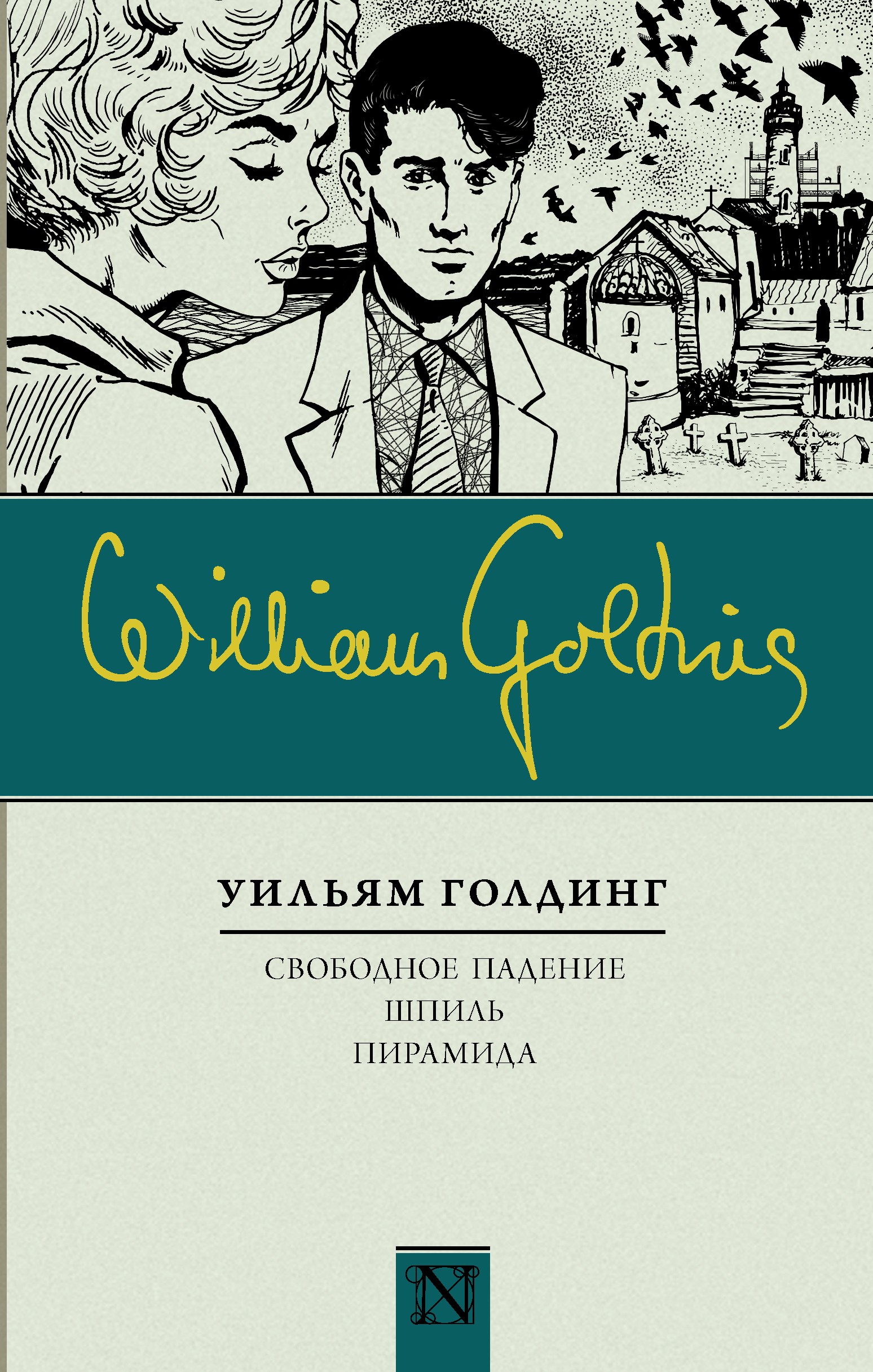выныривали, облитые лунным сиянием. Задумчивые статуи белели среди черных хвойных глубин, углы и закоулки сада бахвалились деревьями в цвету: редкость, которую в этом месяце нигде больше не увидеть. По правую руку от нас шла дорожка с каменной балюстрадой и цепочкой каменных ваз, окутанных резными каменными цветами. Здесь куда лучше, чем в парке, потому что опасно и запретно; да, лучше, чем парк, потому что тут есть луна и тишина; лучше, чем волшебный особняк, освещенные окна и бродившая под ними фигурка. Здесь мы как бы нашли себе дом.
Из особняка донесся взрыв смеха; завыла собака. Я вновь машинально брякнул:
– Хочу домой.
Чем объяснить ту защищенность, которую мы испытывали в этом необычном месте, в чем был его секрет? Нынче, пустив в ход воображение, я вижу нас со стороны: наивные оборвыши; на мне лишь рубашка да штаны, Джонни одет едва ли лучше, и вот мы бродим по саду замечательного особняка. Но я никогда не видел нас вчуже. В моем сознании, стало быть, мы остаемся двумя крупицами восприятия, блуждающими по раю. Я могу только догадываться о нашей невинности, но испытывать ее не в состоянии. Если я и чувствую расположенность к оборванцам, то лишь в отношении двух незнакомых людей. Мы медленно продвигались к деревьям, где обвалилась ограда. Наверное, мы заранее прониклись верой, что фараон успел уйти и нам ничто не воспрепятствует. Разок набрели на белую дорожку и поскользнулись на ней, слишком поздно поняв, что она покрыта свежим, еще не застывшим бетоном. Впрочем, ничего другого в саду мы не нарушили – ничего с собой не взяли, да и почти ничего не трогали. Мы были глазами.
Прежде чем вновь закопаться в подлесок, я обернулся. Этот миг хорошо запомнился. Мы находились в верхней части сада, откуда открывался вид на весь участок. Луна расцвела в своем заповедном, сапфировом свете. Сад же был черно-белым. Между нами и лужайкой стояло одинокое дерево: самое недвижное из всех, росшее лишь в те часы, когда на него не падали людские взоры. Громадный ствол, четкие ярусы ветвей, по которым, как мазутная пленка на воде, расплывались черные листья. Распластанные ветви слоями рассекали мятую фольгу пространства, объятого спокойствием слоновой кости. Позднее я научился называть это дерево кедром и шагать мимо, но в ту минуту это было для меня библейским откровением.
– Сэмми! Он свалил.
Джонни отогнул проволочную сетку и высунул свою героическую голову. На дороге ни души. Мы вновь стали маленькими дикарями и, юркнув наружу, выпали на тротуар. Ограду починят, да и дерево в саду вырастет – но уже без нас.
Сейчас я знаю, чего ищу, и почему эти кадры отнюдь не случайны. Я оттого их привожу, что они кажутся важными. К прямому сюжету моего рассказа они мало чего добавляют. Если б нас поймали, как оно со мной впоследствии и случилось, и за ухо отволокли к генералу, он, пожалуй, запустил бы в ход механизм, который изменил бы мою жизнь или жизнь Джонни. Но описанные мною кадры важны вовсе не этим: они значимы фактом самого своего существования. Я – их сумма, таскаю с собой этот груз памяти. Человек – тварь не сиюминутная, его нельзя считать