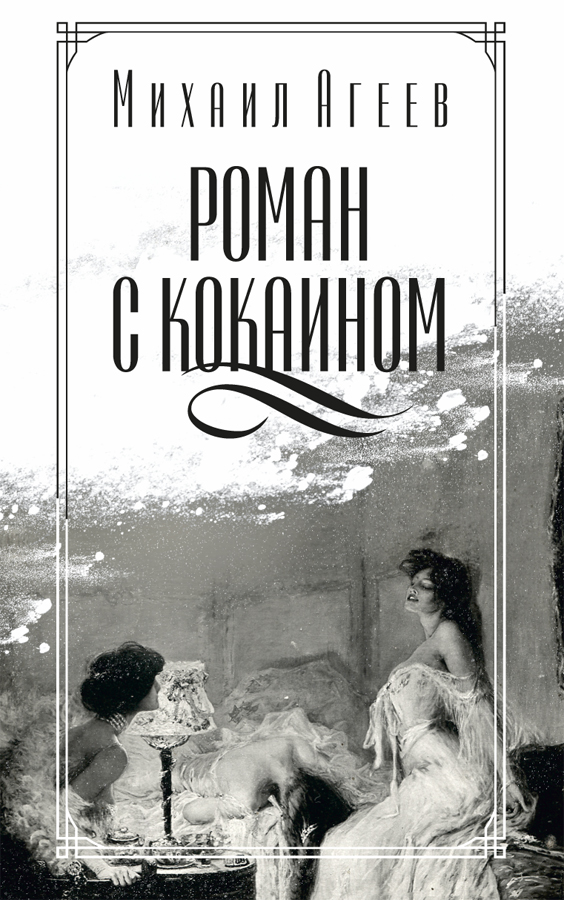в моральном смысле. Позорно же в моральном смысле станет быть евреем тогда, когда наши господа христиане сделаются наконец истинно христианами, иначе говоря людьми, которые, сознательно ухудшая условия своей жизни – дабы улучшить жизнь всякого другого, будут от такого ухудшения испытывать удовольствие и радость. Но пока этого еще не случилось, и двух тысяч лет для этого оказалось недостаточным. Поэтому напрасно вы говорите, господин Штейн, пытаетесь купить ваше сомнительное достоинство, унижая перед этими свиньями тот народ, к которому сами вы имеете честь, слышите ли, имеете честь принадлежать. И пусть вам будет стыдно, что я – русский, говорю это вам – еврею.
Я стоял молча, так же как и все. И, кажется, так же, как и все, в первый раз, в первый раз за всю мою жизнь испытывал острую и сладостную гордость от сознания того, что я русский, и что среди нас есть хотя один такой, как Буркевиц. Почему и откуда вдруг взялась во мне эта гордость – я хорошенько не знал. Я знал только, что Буркевиц сказал несколько слов, причем раньше, чем понять смысл его слов, я уже почувствовал в его словах какое-то особенное рыцарство, рыцарство личного самоуничижения ради защиты слабого и обездоленного инородца, рыцарство, столь свойственное русскому человеку в национальных вопросах. И уже потому, что никто из нас не обругал Буркевица, что толпа, обступившая Штейна, быстро начала расходиться, словно не желая участвовать в недостойном их деле, и что некоторые говорили – верно, Васька, – правильно, Васька, молодец, – мне показалось, что и другие испытывали совершенно то же, что и я, и что хвалят они Буркевица за то поднимающее чувство национальной гордости, которое он этими словами им доставил. Но не испытывал, да и не мог, конечно, испытывать этих чувств сам Штейн. Резко отвернувшись, злобно улыбаясь, он отошел к Айзенбергу и просунув свои громадные белые пальцы за ремень Айзенберга и, так притягивая его к себе, о чем-то тихо ему не то говорил, не то спрашивал.
В первые за тем минуты я испытывал некоторую смутную неприязнь к Штейну. Однако, неприязнь эта быстро прошла, поскольку я сообразил, что если бы тогда, – во время перемены, – когда приходила в гимназию с конвертом моя мать, и я, поступив точно так же, как и Штейн, – отрекся от нее, полагая, что тем самым спасаю свое достоинство, – что если бы тогда к нам подошел бы тот же Буркевиц и сказал бы мне, что негоже сыну совеститься и отрекаться от своей матери только потому, что она старая, уродливая и оборванная, – а что должно сыну любить и почитать свою мать, и тем больше любить, и тем больше почитать, чем старее, дряхлее и оборваннее она, – если бы случилось тогда во время перемены нечто подобное, то весьма возможно, что те из гимназистов, что спрашивали меня о шуте гороховом, и согласились бы с Буркевицем, и, может быть даже поддакнули бы ему, – но я-то, я-то сам уже конечно испытывал бы в этот стыдный момент не столько навязываемую мне каким-то посторонним любовь к моей собственной матери, сколько вражду против этого вмешивающегося совершенно не в