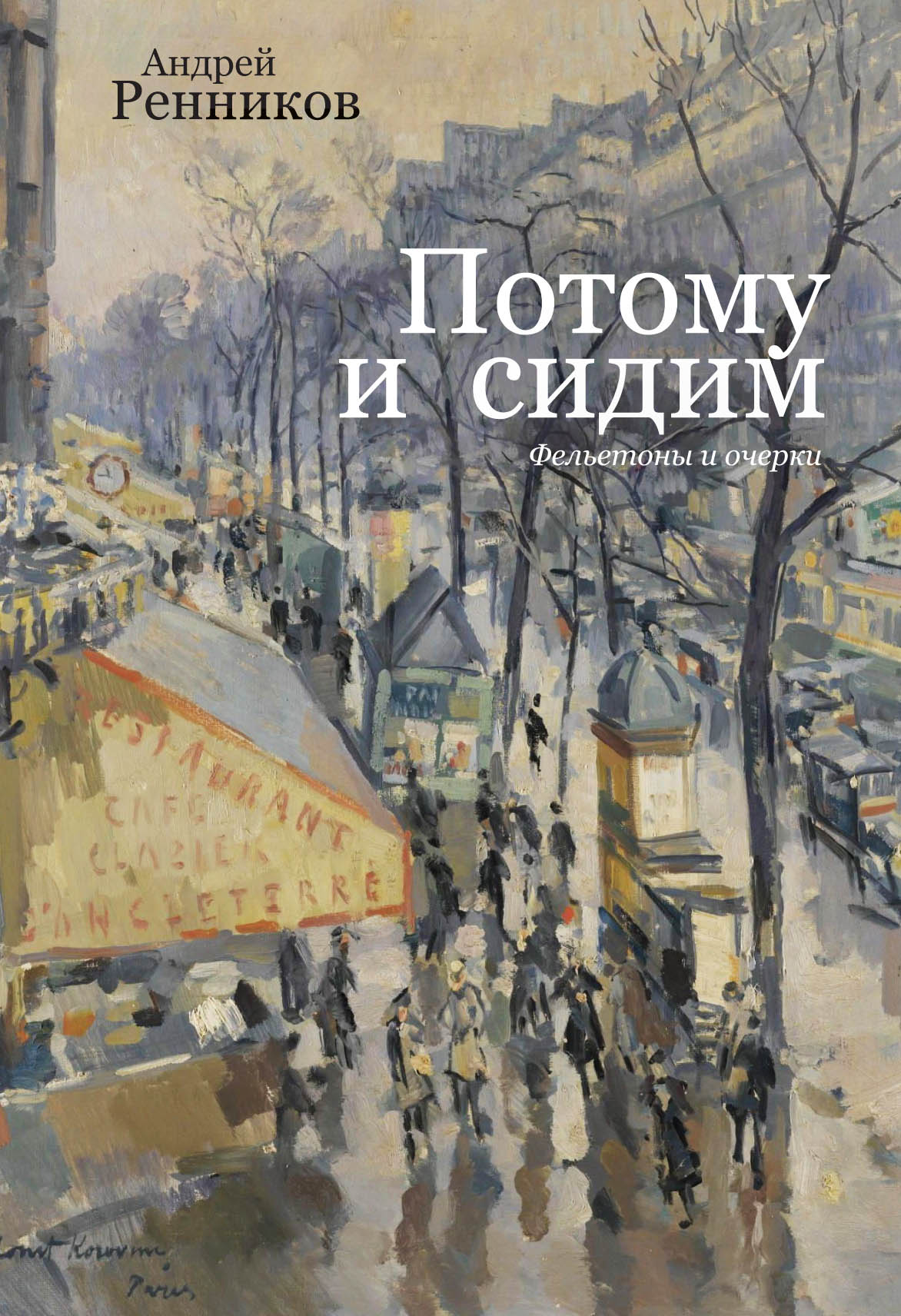лет разлуки мы встретились, наконец, с Ирочкой, оба уже взрослые, сильно возмужавшие и хорошо пожившие за время эвакуации и всевозможных передвижений туда и сюда. Мама, бабушка и дедушка вышли в столовую, когда я явился к ним, не сразу. Ирочке поневоле пришлось занимать меня в качестве хозяйки, пока застигнутые врасплох старики готовились к выходу.
Хотя и не могла она меня вспомнить, как следует, несмотря на все мои напоминания о кругах на воде во время бросания камней, однако, обрадовалась, что я тоже из ее родного Батума. Доверчиво отнеслась как к земляку; подсела ближе и с места в карьер задала загадку, стараясь говорить с кавказским акцентом:
– А вы знаете, что такое: спереди газ, сзади пар, все время бегает, ничего не находит? Это мой брат Гаспар, безработный.
С кавказских загадок беседа постепенно перешла на загадки французские.
– Что такое, – спросила она, – днем черное, ночью белое? Что вы сказали? Старая электрическая лампочка? О, нет. Наоборот. Это мсье кюре, когда он одет, и когда он раздет…
После загадок Ирочка заговорила о серьезной литературе, главным образом, о своих собственных стихах. Продекламировала очень недурное на узкосемейные и школьные темы. И перешла, наконец, к вопросу о своих занятиях в лицее.
А начальница у тебя симпатичная?
– О, да, очень. Одно только неприятно: любит делать уколы и замечания. Вообще очень пикантная женщина.
– А русскому языку тебя кто-нибудь учит?
– Да, конечно. Мама учит. Только не всегда, а на Пасху, на Рождество и летом. Осенью не учит.
– Хорошо… А, скажи… Что такое, например, плести лапти? Знаешь?
– Плести ля пти? Конечно. Очень просто. Пти пуан[103] делать. Гобелен.
– Ну, нет, извини… Врешь. Лапоть что такое, по-твоему?
– По-русски?
– По-русски, понятно.
– Не знаю… Кружева, может быть, Или трикотаж. Ну, а еще?
– Слово кушак знаешь? Кушак… Гм… Кушанье? Нет? Не знаю. Что не знаю, то не знаю.
А гумно?
Гумно? Хи-хи… Гумно. Тоже не знаю.
– А закрома?
– Ну, оставьте, пожалуйста. Это вы все нарочно. По-турецки, должно быть. А хотите я напишу русское диктэ? Я умею. Дедушка по воскресеньям, когда свободен, диктует, а я пишу и ять ставлю. Большевики ять выкинули, а я им нарочно… Хотите?
Она сидела против меня за столом, усердно писала, переспрашивая слова, задумчиво грызя карандаш. И когда посмотрел, что в конце концов вышло, жуть взяла.
– Милая моя, да ведь это совсем по-болгарски! – не удержавшись, воскликнул я. – Почему у тебя посреди «бабушка» твердый знак поставлен?
– А здесь «б» твердое. И потом, большевики твердый знак тоже выкинули.
– А среда почему через «ять»? И весна?
– Не надо разве? Ну, хорошо, зачеркните. Хотя, по-моему, жалко.
– Да, да, неважно. Ошибок много. Вот, например, «велесепед». Четыре «ять», Ирочка. Разве можно позволять себе такую безумную роскошь?
Вошедшая в столовую Екатерина Евгеньевна прервала наши занятия. Любезно поздоровавшись со мной,