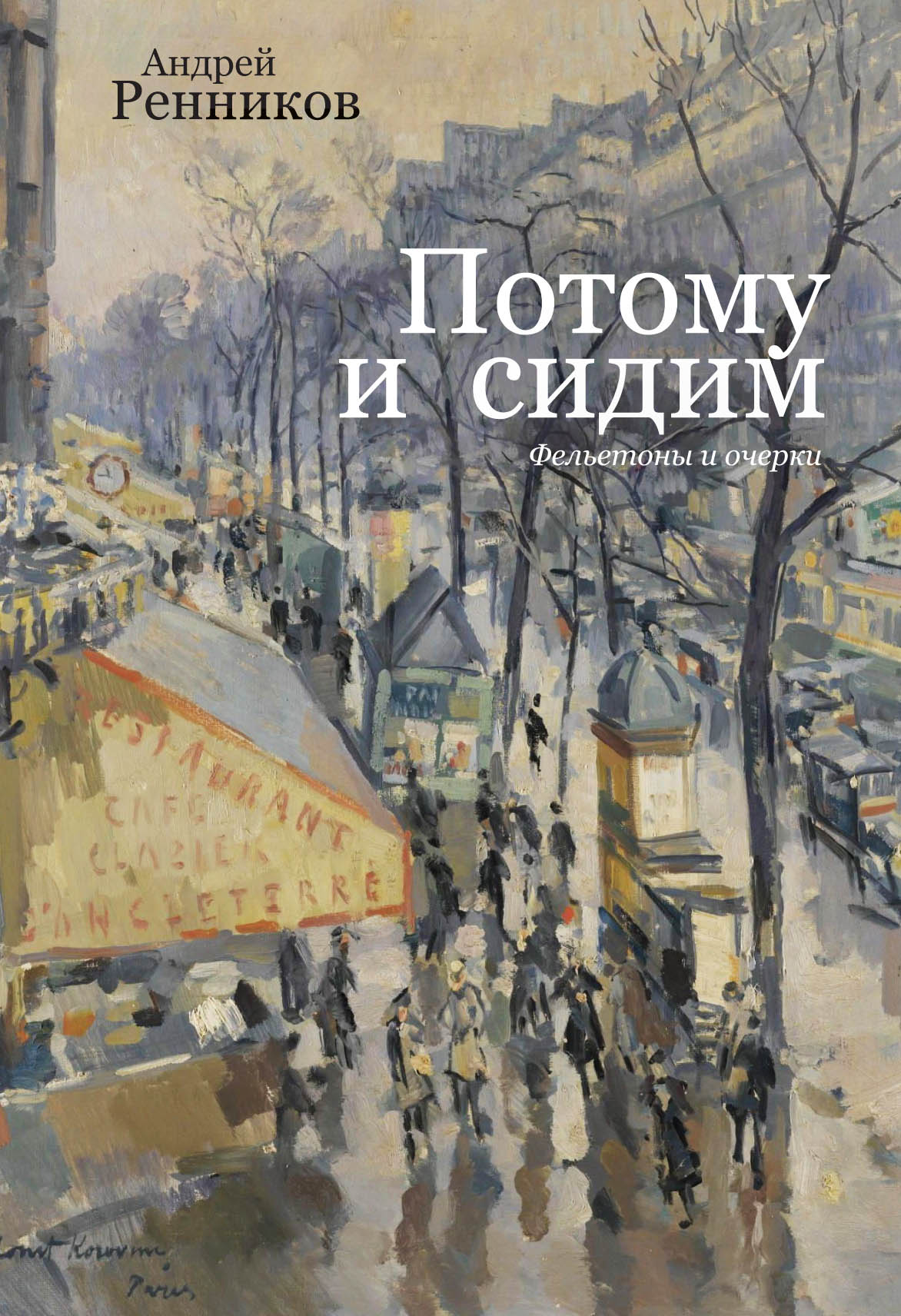кредит… А я?
Вот уже рассвело. Стою у окна, вижу Рону, хребет Севеннских гор, кое-где на скалистых уступах замки… Если бы смотреть из спального вагона, было бы очень красиво. А так… впечатление неясное. Глаза слипаются. А главное, голова чертовски болит.
В Авиньоне в купе вошел новый пассажир странного вида. Костюм потрепанный, шляпа артистически изогнута, из бокового кармана пиджака выглядывает револьвер. Лицо бритое, с бородавками, походка торжественная.
Оказывается, – акробат. Живет в Авиньоне у родственников, пленен безработицей, как некогда было здесь с папами… И клянет кинематограф, который вытесняет теперь чистое цирковое искусство.
– Кавало се неча! – начинает он ораторствовать на все купе. – Родственники хотят приспособить меня к торговле ножами (вместо «куто[156]», он говорит «кутео»). Но вы понимаете, мсье, какое унижение для партерного акробата заниматься торговлей. Это верно, ваше искусство тяжелое. Принимая вольтижера на свои плечи, я всегда должен быть точен, как Бог. Это вам не политика, где можно болтаться из стороны в сторону, и не торговля, где все основано на неуверенности покупателя. Я восемьдесят кило выдерживал на своей спине, с размаху, это что-нибудь да значит.
– А вы не пробовали, мсье, играть в синема? – почтительно спрашивает торговка, с тревогой взглядывая на торчащий револьвер. – В синема люди хорошие деньги делают.
– Я не продаю своей души черту, мадам, – гордо отвечает акробат. – В цирке все люди уважают друг друга. В цирке все должны быть друзьями, иначе ни один номер не выйдет. А в синема – все враги. В синема нужно быть змеей, мадам, чтобы уметь ползать перед режиссером.
Поезд подходит к Тараскону. С любопытством смотрю в окно на городок, посреди которого возвышается замок. Вспоминается Тартарен[157]… А акробат гудит, критикует все и всех:
– Лион! – презрительно говорит он. – Но разве это город, мсье? Это – водосточная труба. Мы в Провансе недаром говорим, что жители Лиона никогда не покупают шампиньонов, потому что шампиньоны растут у них на башмаках. А что касается нас, провансальцев, то мы самый трезвый народ во всей Франции. Мы обожаем только сидр, хотя пьем исключительно вино.
Поезд стоит в Тарасконе не долго. Уходит назад станционное здание, постепенно скрывается город. Мой приятель мечтательно смотрит в окно, затем с улыбкой обращается к долговязой соседке:
– Благодаря Тартарену, мадемуазель, этот город стал знаменитым на весь мир, неправда ли?
– Возможно, мсье. Только я не из этих мест. Я из Фонтенбло.
Торговка, переставшая слушать акробата, пытливо смотрит на моего друга.
– Вы знаете Жюля Тартена, мсье? – спрашивает она.
– Нет, Тартарена, мадам. Которого, помните, описал Доде.
– А! Значит другого. А мсье Тартена я хорошо помню. Прекраснейший человек. И жена тоже. Магазин у них в Тарасконе, шаркютри[158].
«Возрождение», Париж, 10 мая 1929, № 1438, с. 2.
3. Побережье. –