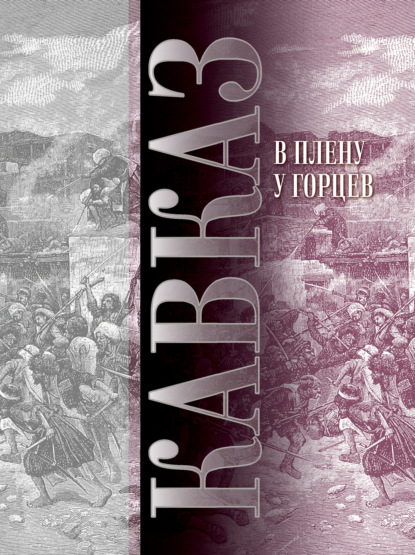суд кончился, и мой хозяин воротился таким веселым, как и перед приговором. Мы зажили по-прежнему.
Абазат и я, его жена Цацу и племянник Абазата, сирота Даланбай, составляли наше семейство.
Роскошная природа, доброта Абазата и крепкая надежда на возврат по временам делали меня веселым гостем. Как после исповеди, так после тяжких трудов, если не мило все, по крайней мере ничто не тревожит нас. Видя в горцах тех же людей и смотря на их вечерние молитвы, когда человек, как бы прощаясь со светом, отдается тьме, умилительно прося осенение своему бездейственному телу, я роднился с ними. А всякое призвание Бога, в ком бы оно ни было, порождает в нас какое-то сострадание; я предался моим мечтам и был еще доволен, что судьба так милостиво водит меня по извилистым путям, я приятно забывался!.. Тоску ничем иным не считаю я, как греховным бременем на слабом теле. Бодрость духа есть благодать, ниспосылаемая нам свыше за безусловную любовь нашу к людям и надежду на вечную жизнь. Сами мы бываем причиной своего горя, и если бы мы постоянно любили друг друга, не видели б суровых дней. Когда человек весел, ему все братья. Откровенно говорю я о состоянии души моей, когда мне было весело и когда тяжело. Было весело – когда надеялся, и тяжело – когда сомневался. Жизнь моя у горцев была переменчива, и тоска моя об этом была наказанием за грехи мои.
Одноаульцы, приятели Абазата, мулла Алгозур и Яна, часто посещали нас. Мулла благоговейно говорил о догматах и жизни вообще, Яна иногда вступал с нами в суждение, Абазат большей частью слушал покорно.
Когда являлся в такую беседу брат Яны, полоумный Ажгира, и своими неуместными вопросами перебивал речь, все смеялись, подшучивали над Ажгиром, не оскорбляя его, и тогда беседа делалась еще веселей.
Из разговоров я ловил незнакомые слова и тотчас записывал углем на стене или на потолке. В сакле не осталось чистого места, где бы не было написано. Иногда они сами сказывали мне свое слово, зная, что оно мне незнакомо.
В какой сакле был я, туда все и собирались. Любуясь вечерним небом, я уходил от сакли и ложился на мягкий луг, помечтать на просторе. Тогда подходил ко мне Яндар-бей, видел, что я смотрю на небо, объяснял мне звезды, служащие им проводниками во время ночных грабежей. Звезда против Каабы, «кильба-сияда», у них главный маяк. Но осторожный Ака, боясь, чтобы эти толкования не послужили мне в пользу при побеге, заставлял Яндар-бея сдержаться. Когда оставался я один, было мне спокойнее. Думая, что я уединяюсь от тоски, Яндар-бей если не сам, то был посылаем ко мне, чтобы развлечь меня, и больше надоедал мне. Он хотел привлечь меня к себе рассказами о разных разностях и не скрывал от меня ничего, о чем только я ни спрашивал, кроме того, что могло служить к побегу.
Неприятен был Даламбай Цацу. Без Абазата он беспрестанно плакал, произнося: «Мецэ-у!» (Я голоден!). Цацу называла его обжорой – сутур; ребенок больше капризничал и обещал пожаловаться Абазату; но когда, чтоб заглушить крик, Цацу кормила его, тогда он, несмотря на все ее насмешки, спокойно кушал, не по своему возрасту. Часто проказничал