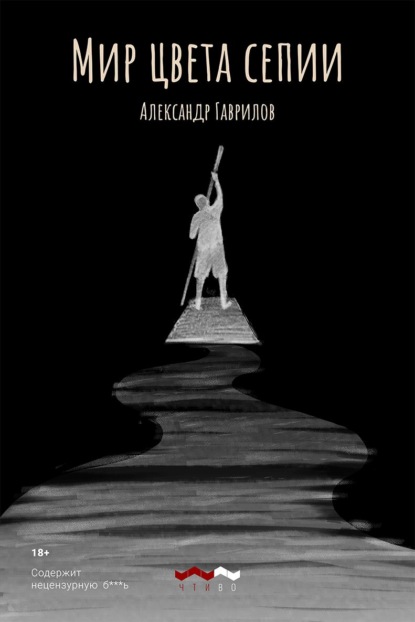(хотя кто его знает, возможно, вовсе и не в этом дело).
Саше пришлось совсем тяжко: мать умерла, когда ему было двенадцать. Отец, тихий главбух картонажной фабрики, после смерти жены плакал по ночам, однако, спустя год женился на своей подчинённой, апатичной двадцатитрёхлетней блондинке Клавдии. Девушка казалась недалёкой: при разговоре опускала глаза, без нужды шмыгала носом, к месту и не к месту вставляя «Это самое». Саша был к мачехе равнодушен, она тоже его не замечала.
Вскоре из Псковской области приехала мать Клавдии Евгения Николаевна, миниатюрная чрезвычайно энергичная женщина. Квартира Розенбергов ожила: на кухне кипела жизнь, гудела стиральная машина, брякала посуда, и вся эта хлопотня сопровождалась неумолчным воркованием Евгении Николаевны: «Мальчики! Девочки! Ручки мыть и к столу!» – звала домочадцев проворная гостья. Впрочем, в гостьях она не задержалась: после недолгого семейного совета была прописана в трёхкомнатной квартире Розенбергов. Все были довольны.
Прошло чуть больше года, и отец с сыном оказались в осаде, что совпало с беременностью Клавдии. Чтоб разогреть ужин, зачастую приходилось ждать. «Куда прётесь? Не видите, плита занята», – шипела Евгения Николаевна, для которой кухня стала чем-то вроде личного кабинета. «Свет погасили! Повадились тут своевольничать!» – орала она из комнаты, если отец включал лампу, чтоб почитать перед сном. Позднее Саша узнал, что забеременела Клавдия не от отца, – он был в курсе, но молчал.
Когда у Клавдии родилась дочь, Евгения Николаевна совсем остервенела. Ничего не оставалось, кроме как размениваться. Предприимчивая тёща с дочкой получили двушку на Гражданке[4], а Саша с отцом – комнату в коммуналке. Ещё одну комнату они выхлопотали много позже. Всё бы ничего, но для отца Саши противостояние мегере стоило здоровья – он умер от онкологии в неполных сорок семь лет.
Рассказывал Саша с паузами: то откашливался, то, нагнув голову, протирал очки. Нехитрые уловки: мне, глядя на него, самому плакать хотелось.
Как-то у нас зашёл разговор о личной жизни: неплохо было бы – хоть мне, хоть ему – жениться. Тут Саша и поведал о своём неразделённом чувстве. Услышав имя девушки, я едва не поперхнулся (мы как раз закусывали). Юлю Токареву я знал достаточно хорошо. Высокая черноволосая худышка, приблизительно моего возраста, собой была недурна, только сломанная переносица подводила. За Юлей прочно и небезосновательно закрепилась репутация потаскушки. Мы с ней были знакомы с юности и, хотя сам я отношений с ней не имел, о её похождениях был наслышан. С тех пор мало что изменилось: Юля оставалась безотказной, давала всем, кому придёт охота, давала бескорыстно – по дружбе. Бутылку-другую дешёвенького портвешка, само собой, в расчёт никто не брал.
Саша поджидал Юлю вечерами у кондитерского производства, где она работала мойщицей лотков, и не мог осмелиться подойти.
– Понимаешь, – говорил он мне, – чувствую себя мальчишкой, такой она мне кажется недоступной. Такая, знаешь, утончённая… Молодую Ахматову