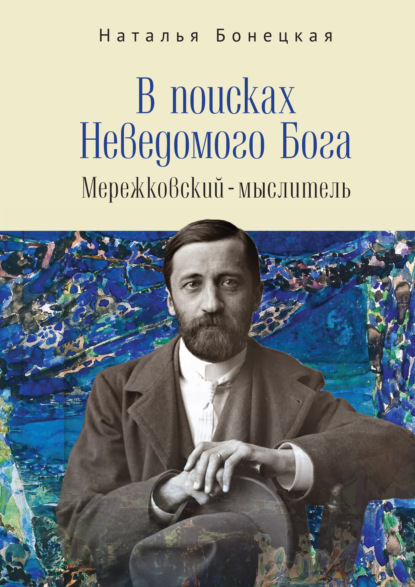Фридриху Ницше). И с этим связано то, что преграды между ним и самими собой мы даже в XXI веке не чувствуем.
Так почему же этот автор увлекательнейших, остроумных – до глубокомыслия, разнообразных по жанрам текстов «не для всех»? Я имею в виду, что он – не для всех, но для каждого, что его слово обращено к «я» читателя – к сокровенной, подчас тайной и для этого последнего его глубине. Потому воззрения Мережковского невозможно превратить в идеологию – сделать достоянием «всех». «Зачем нам нужен Мережковский? зачем – Серебряный век?» – мы, воспитанные в духе идеологии (разумеется, «единственно верной»; ныне на место марксизма-ленинизма норовят водрузить православие, патриотизм, русскую идею и т. и.), привыкли к такого рода вопросам. И впрямь: Серебряный век – это эпоха декаданса, как с точки зрения материалиста, так и христианина (конечно, «упадок» ими понимается по-разному). Разрушение основ этики – многовековых представлений о добре и зле; неоязыческие искания; увлечение оккультизмом; аморальность в жизни – таков далеко не полный перечень духовно-упадочных тогдашних культурных тенденций. В течение нескольких революционных (имею в виду революцию духовную) десятилетий сложился совершенно новый для России антропологический тип – человек над бездной, – индивид без мировоззренческих опор, без бытийственной почвы. И интеллектуалы довели до апофеоза свою беспочвенность, как бы возжелали пребывать в бесконечном становлении. Пафос «переоценки всех ценностей» (Ницше) оформился в целый ряд философских концептов: это несотворенная свобода Бердяева, абсурд Льва Шестова, двоящиеся мысли Мережковского. Ясно, что подобные понятия не могу быть положены в основание общезначимого учения, – философия раскрепостившегося духа – не для всех.
Невозможность превращения в идеологию, утилизации, возникает в связи с воззрением Мережковского в сугубой степени. В сонме мыслителей Серебряного века он – едва ли не самый отчаянный путаник и фантазер. Художник в основе, своим даром вымысла он дерзко пользовался и в области теоретической мысли. В его творчестве и жизненных экспериментах явные ошибки и просчеты громоздятся на ошибках же. Кто сейчас всерьёз станет исповедовать его учение о Третьем Завете, о Духе Матери, – о пресловутой Тайне Трёх? Может ли быть возрождена основанная Мережковским и Зинаидой Гиппиус секта «Наша Церковь» – искусственное смешение православия с нездоровой эротикой? А вера в возможность скорого наступления Царства Божия через свержение царизма и последующую анархию? А культивирование странной четой Мережковских террориста Савинкова? И так дальше и дальше. Я уж не говорю о том, что некоторые пассажи Дмитрия Сергеевича без преувеличения можно расценить как прямой сатанизм, – скажем, одобрение расстрела Причастия, о чём в «Дневнике писателя» сообщил Достоевский, или положительную оценку преступления Раскольникова и, соответственно, развенчание его раскаяния… Демонично и представление Мережковского о смыкании «верхней» и «нижней» «бездн», уравнивание им в достоинстве путей добра и зла. В своей книге начала 1900-х годов о Толстом и Достоевском мыслитель заявил о Ницше как о новом святом – святом Третьего Завета; но ницшеанская закваска его творчества дает знать о себе и в сочинениях 1920-1930-х годов.
Итак, вопрос: «Нужен ли нам – русскому народу, русской культуре – такой писатель, как Мережковский?» – может быть поставлен вполне всерьёз. Он очень талантлив, но если свой дар слова он использовал для обоснования ложных и вредных идей? Однако, быть может, не все его концепции ошибочны и пагубны? В его творческой копилке не хранится ли нечто продуктивное, выдерживающее испытание временем, оправданное нравственным судом? Читатель, возможно, согласится, что меткой догадкой, если и не пророческим прозрением, было представление Мережковского о Грядущем Хаме – о торжествующей победе в недалеком будущем и во всемирном масштабе духа смердяковской пошлости, воинствующего тупого мещанства над всем высоким и чистым. Именно таким видел зло наш мыслитель, и люциферическая бравада – отнюдь не последнее его этическое суждение. А весьма тонкая, лично выстраданная мысль о том, что различить, на самом деле, добро и зло порой до невозможности трудно? В книге 1932 года «Иисус Неизвестный» эта мысль обострена до предела: Христос и Антихрист здесь представлены метафизическими двойниками, причем самому Иисусу было дано пережить страшную – почти до одержимости Другим – близость к его антиподу. Конечно, Иисус Неизвестный – плод художественно-богословской фантазии Мережковского, и его собственные «апокрифы», составляющие основу книги, не стоит принимать совсем уж всерьез. Лично меня представление о Христовых двойниках коробит, но оно, возможно, поможет кому-то в деле различения духов…
Но настоящим коньком Мережковского является тема человека. Наверное, именно его (а не возможных тут конкурентов – Шестова, Бердяева) следует признать основоположником отечественной философской антропологии. Предтечи Мережковского здесь (если не считать писателей-классиков) – это Соловьёв (введший в обиход мысли понятие Богочеловечества) и Ницше (на место Бога предложивший мировоззренчески поставить сверхчеловека). Однако если бы потребовалось одним словом назвать философский предмет, занимающий мыслителя, то именно о Мережковском мы были бы вправе