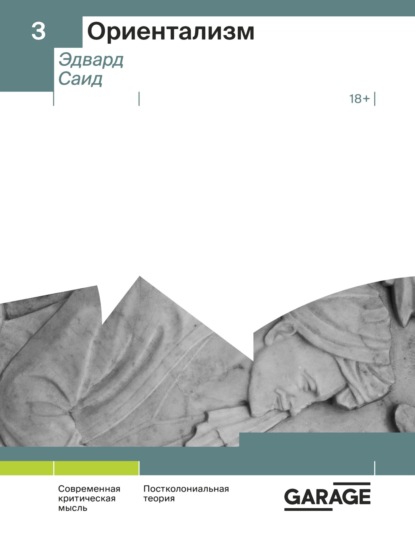и образной демонологии XIX столетия, «таинственного Востока». Это как нельзя более верно в отношении восприятия Ближнего Востока. Три вещи ответственны за то, что даже самое элементарное восприятие арабов или ислама превращается в крайне политизированное, даже надрывное занятие: первая – история популярных антиарабских и антиисламских предрассудков на Западе, что непосредственно отражено в истории ориентализма; вторая – это борьба арабов и израильского сионизма и ее влияние на американских евреев[155], так же как и на всю либеральную культуру и население в целом; третья – почти полное отсутствие какой-либо культурной позиции, позволяющей либо идентифицироваться с арабами или исламом, либо бесстрастно эти темы обсуждать. Более того, вряд ли нужно говорить, что, поскольку Средний Восток в настоящее время так сильно отождествляется с политикой великой державы, нефтяной экономикой и простодушной дихотомией свободолюбивого, демократического Израиля и злых, тоталитарных арабов-террористов, шансы на какое-либо ясное представление о темах, связанных с Ближним Востоком, удручающе малы.
Мой собственный опыт в этих вопросах отчасти и побудил меня написать эту книгу. Жизнь араба палестинца на Западе, особенно в Америке, безнадежна. Здесь он почти единодушно политически не существует, а если и существует, то либо как досадная помеха, либо как «восточный человек». Паутина расизма, культурных стереотипов, политического империализма, дегуманизирующей идеологии, опутывающая араба или мусульманина, по-настоящему сильна, и эту паутину каждый палестинец стал ощущать как свою личную кару. Для него всё становится еще хуже, если отметить, что ни один ученый, занимающийся Ближним Востоком, – то есть ни один ориенталист – в Соединенных Штатах никогда полностью себя культурно и политически не отождествлял с арабами; конечно, на каком-то уровне отождествление было, но оно никогда не получало «приемлемой» формы, как в случае с либеральной американской идентификацией с сионизмом[156], и зачастую было сильно подпорчено ассоциацией либо с дискредитированными политическими и экономическими интересами (например, арабисты нефтяной компании и Госдепартамента), либо с религией.
Поэтому связь знания и власти, создающих «восточного человека» и в некотором смысле уничтожающих его как человеческое существо, не является для меня чисто академическим понятием. И всё же это интеллектуальное понятие и, весьма очевидно, важное. Я смог использовать свои гуманистические и политические опасения для анализа и описания очень конкретной темы – становления, развития и консолидации ориентализма. Слишком часто литературу и культуру считают политически и даже исторически невинными; мне всегда казалось иначе, и, конечно, мое изучение ориентализма убедило меня (и, надеюсь, убедит моих коллег в области литературы), что общество и литература могут быть поняты и изучаемы только вместе. Кроме того, по почти неизбежной логике я обнаружил, что пишу