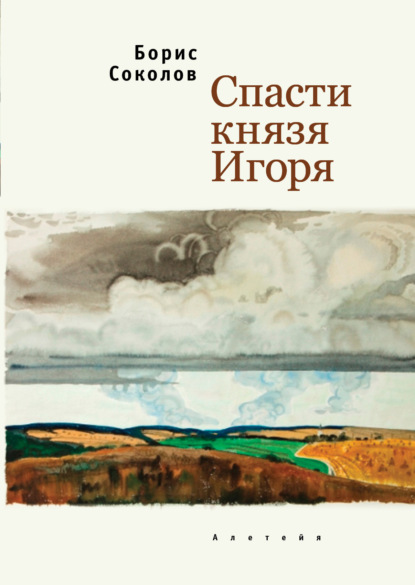стрелки до желанной цифры… Зато наказанному дарилась возможность покидать угол самостоятельно!
А лето дарило нам свои радости: бывало, мы целыми днями пропадали у маленькой речушки с обрывистыми берегами, скорее похожей на ручей – там, где мы купались, ее можно было перейти, не замочив пупа.
…На песчаной косе я лежу нагишом на животе рядом с девочкой, такой же голенькой. Мы лежим в воде на мелком месте. Совсем не помню, кто она, как выглядела – помню только, что это была девочка. Лежу я выше по течению, прохладные струи омывают, обтекают меня; я вижу, как прозрачные колеблющиеся нити уходят к ней – у меня возникает незнакомое сладкое ощущение, что струями я касаюсь ее, что вода как-то связывает нас непостижимым образом…
Речушка была нашим идолом, которому мы истово поклонялись. Наплескавшись до посинения, мы выбирались наверх, ложились возле самого обрыва на зеленый ковер травы и глядели вниз, следили за стрекозой с пронзительно синими крылышками – такими яркими на чистой белизне песка. Смотрели, как она, пролетев над серебряно взблескивающими речными струями, опускалась на какой-нибудь вымытый глянцевый нежнозеленый листочек, слегка покачивающийся над самой водой.
Как пахла обыкновенная трава! Как пахла нагретая солнцем собственная кожа, когда под ласковыми лучами уткнешься носом в согнутую в локте руку! Этот, едва уловимый, теплый запах, казалось, источало само солнце…
Лишь спустя годы, в такой же солнечный день, на пляже, когда я лежал на песке, касаясь щекой плеча любимой женщины, мне вспомнились вдруг и запах нагретой солнцем кожи, и ушедший навсегда, невозвратимый мир. И я был поражен этим внезапным возвращением в то далекое время, когда меня как будто и не было, а был вместо меня кто-то другой, очень мне близкий, но, кажется, бесплотный, ангелоподобный, каким-то образом чуявший, что он сам и мир вокруг: и земля, и вода, и воздух, и небо, и солнце – неотделимы друг от друга, едины.
Тогда, в то последнее предвоенное лето, я верил всем своим существом: всё то, что я вижу перед собой, будет всегда – будут всегда и речка, и трава, и разомлевшие от зноя ветлы, макающие космы свои в чистую, как небо, воду. Мог ли я знать, что этот мир так же хрупок и уязвим, как та нежная стрекоза с перепончатыми крылышками, и что над ним уже занесена железная длань войны? Что, едва начавшись, окончится для меня деревенское лето и оборвется связь с ласковым, греющим, журчащим миром…
Надвигающейся катастрофы не чувствовали взрослые, что же говорить о ребенке? Я просто жил – этим всё сказано. Разве плохо оставаться под отчим кровом? Целыми днями мы, дети, пропадали на свежем воздухе, бабушка отпаивала нас парным молоком.
Но не всё гладко было в моей жизни. Отец работал в соседнем хозяйстве, дома я видел его редко и скучал по нему. Домочадцев кругом было немало, и я, должно быть, порой путался под ногами – и мимоходом то один, то другой, все понемногу, время от времени принимали участие в моей не совсем устроенной судьбе. И несмотря на то что рядом было много взрослых (а может, именно благодаря этому),