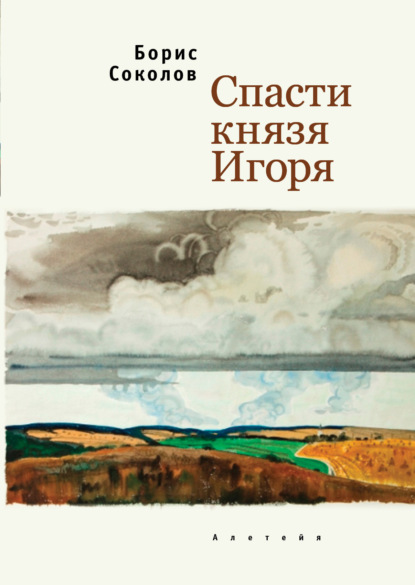смотрел на елку и думал о том, как всё же хорошо жить здесь, где зимой много снега и растут ёлки, и как жаль, что далеко-далеко, в ауле, теперь скучно и, наверно, свистит ветер, гонит песок… Абдунаби, дедушка, бабушка сидят на ковре при свете коптилки и у них совсем нет ёлки…
– Мама, – сказал я, – давай позовем к нам дедушку и бабушку, и Абдунаби, пускай приезжают…
Мама Таня засмеялась.
– Что ты, Сереженька… Ты вспомни, как мы ехали. Это же очень далеко, и потом – нельзя, идет война.
«Да, правильно, – подумал я, – нельзя. Война. Как это я о ней забыл?»
Подперев кулаком щеку, мама Таня печально смотрела, как Мария Федоровна собирает со стола карты.
– Тетя Маша, а бывает, что карты врут?
– Бывает, что и врут, Танюша, – охотно согласилась Мария Федоровна. – А мы вон чего… мы сейчас по-другому…
Запалив свечу, она погасила керосинувую лампу, потом скомкала лист газеты, положила на чистое блюдце, поднесла его к стене и подожгла – на стене заплясали тени. Женщины притихли. Я заметил, как мама Таня потихоньку смахнула непрошенную слезу, и мне тоже стало грустно. Не было никаких вестей ни от матери, ни от Володи, с которым я перед войной катался на трамвае, – из ремесленного училища он удрал на фронт, да так и пропал.
Что же можно было увидеть в узорах оранжевого и розового тления бумаги, в отсветах и тенях на стене? Мария Федоровна шептала что-то, но нельзя было разобрать что. Не мог я знать тогда, что, быть может, тысячи женщин по всей России так же вот гадали в эту ночь, затаив дыхание и следя за пламенем в надежде хоть как-то заглушить тревогу о близких, воюющих с врагом.
Подарили мне замечательную книжку, которая сразу сделалась моим верным другом и собеседником, я мог подолгу сидеть и рассматривать картинки… Огромная луна в морозном круге высоко повисла над бескрайней, заснеженной степью, по которой, теряясь вдали, вьется, убегает санный путь, а по нему – уже далеко – одиноко трусит лошадка, запряженная в сани… И рисунок этот как будто был каким-то чудом переведен в слова, перелит в стишок, напечатанный тут же, в уголке. Его я знал наизусть, и всё вместе было очень близко мне: я и сам недавно полеживал в санях и видел и «свет небес высоких», и мерцающую под ними белую пустыню – и ощущал во всей этой огромности наш «одинокий бег»…
Чудная картина,
Как ты мне родна!
Белая равнина,
Полная луна
Свет небес высоких
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.
Это было удивительно, ведь всего-то: короткие – в два-три слова – восемь строчек! Но я чувствовал их сильную власть над собой – и она была такой же, как власть луны, равнины, дороги…
На следующей странице начиналась сказка «Два брата». Первые же строки завораживали, после них нельзя было остановиться, не читать дальше.
«Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте как вкопанные, но все-таки они живые. Они дышат.