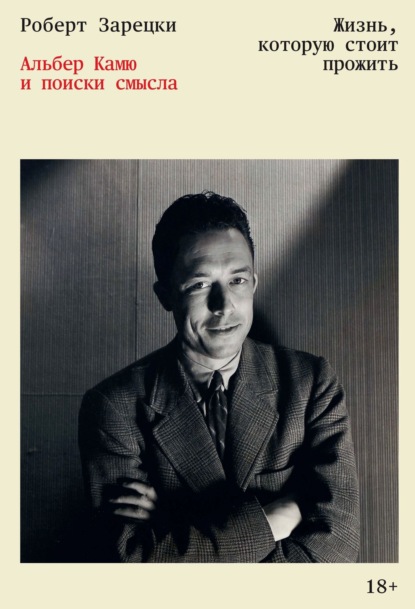искать, где получить образование. В Оране с его немалой еврейской общиной на учителей возник высокий спрос: в марте Камю уже преподает в двух частных школах вместе с еврейскими друзьями, изгнанными из государственных лицеев.
Камю становится мастером на все руки, преподает множество предметов от французского языка до географии и философии, но ни одна из дисциплин не дает ключей к абсурду ситуации. В то же время Камю прекрасно сознает необходимость реагировать на поставленные условия, преодолевать их. Вдвоем с женой они организуют сбор денег и дают приют еврейским друзьям, потерявшим работу из-за расовых квот. Происходят тайные разговоры о сопротивлении: обсуждается как, где и когда, но почти никакого действия за этим не следует. Атмосфера в Оране остается мрачной и гнетущей. Да, у Камю, наконец, есть устойчивый доход, и писатель делает все, что только может, для друзей, но такая жизнь ему невыносима. «Дни тянутся и тяготят меня» – признавался он одному из приятелей[75]. В письме же другому жаловался: «Я задыхаюсь». Как человек, страдавший туберкулезом, Камю прекрасно понимал цену такой метафоры.
Где-то на середине этого тревожного и безотрадного отрезка жизни Камю завершает рукопись «Мифа о Сизифе». Теперь все «три абсурда», включая «Калигулу» и «Постороннего», готовы. Хотя бы в этом отношении Камю может вздохнуть с облегчением. В записных книжках, объявив о завершении работы, он прибавляет: «Начатки свободы»[76]. Как явствует из его трактовки мифа, свободу можно обрести в самых неожиданных местах: даже в Оране или в Аиде.
«Боги обрекли Сизифа вечно вкатывать на вершину горы огромный камень, откуда он под собственной тяжестью вновь и вновь низвергался обратно к подножию. Боги не без оснований полагали, что нет кары ужаснее, чем нескончаемая работа без пользы и без надежд впереди»[77]. Сначала лишь скупо набросав портрет Сизифа, Камю затем наполняет миф красками. Он описывает, как Сизиф «с трудом» катит валун, и отмечает, что перед ним поставлена непростая задача, но все эти непомерные физические усилия как будто отходят для Камю на второй план. Словно пытка, которую боги назначили Сизифу, в первую очередь – а может, и вообще – заключается не в истязании тела, а в глумлении над разумом, озадаченным бесконечным повторением. Для Сизифа, обреченного снова и снова делать одно и то же целую вечность, без отдыха и без цели, под невидящим взглядом Вселенной, размер и вес камня совершенно не важны. Пытка заключается в безостановочном выполнении бессмысленного действия[78].
И поэтому нет смысла менять или облегчать задачу приговоренного: станет ли он катать газонокосилку, вставлять нитку в иголку, бросать мяч в корзину, выносить мусор, стирать запятую, а потом вставлять ее снова – бесконечное повторение действий, не приводящих ни к какому результату, все равно останется пыткой. Мучительность труда Сизифа – не следствие силы тяготения. Нет, он тягостен своей непоследовательностью. Конечно, Сизиф привязан к этому камню, но важнее то,