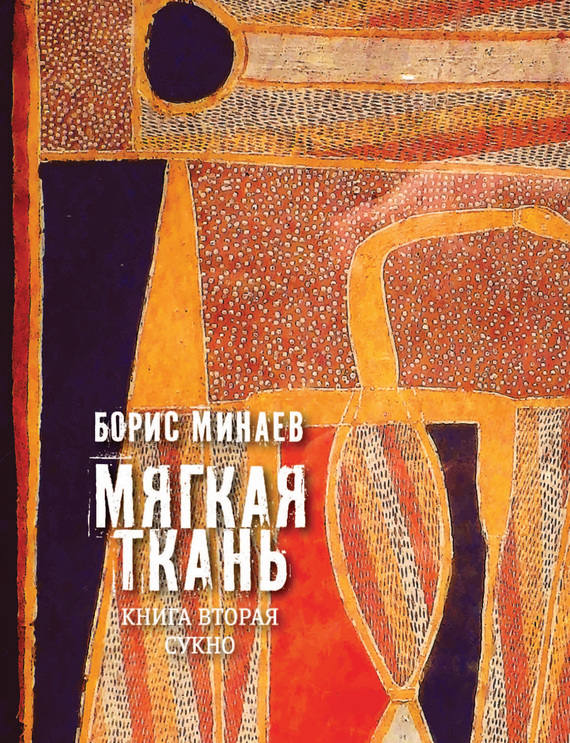взявшиеся ложки, портсигары, даже ткань, мягкую ткань предлагали ему тоже. Им казалось, что раз государство отнимает детей не по праву, не по обычаю, сверх положенного, не законно, то и откупиться можно тем же путем, вне закона, вне правил, но он твердо объяснял, он вежливо выпивал свою рюмку, чтоб не обижались, не бранились, ведь выпил – значит, уважил, значит, можно кричать, плакать, но его не трогай, он гость, он все делает правильно, и тогда откуда-то выходили мужики, кланялись, начинали разговор: а что, а куда, а в Австрию, вишь, в Австрию!
В Австрию.
Однажды он видел, в гостях у барина, у чиновника, верней не в гостях, а был по делу, по поводу поджога у соседей, жгли теперь, после пятого года, много, часто, в охотку, вошло в привычку, порой горело и само, трудно уже было понять, само или не само, тем более трудно было найти этих поджигателей, но он искал, так было надо, и вот заехал к этому общипанному барину. Бедное поместье, но гордое: большие ворота, деревянные колонны по фасаду, этих не жгли и, наверное, даже не собирались – взять было нечего, а может, любили крестьяне эту старуху-хозяйку, колючую, едкую бабу, которая никому не спустит, всегда говорит правду, как и его жена. Все дети разбежались от старухи, в Москву, в Питер, и вот этот один сын, чиновник, приехал, и в доме был праздник, было светло, чисто, прислуга умильно стояла вокруг стола, мужики и бабы, а сын вдруг начал показывать на тарелке, где эта самая Австрия, ловко вылил в белую кашу стакан киселя и размазывал ложкой, наподобие карты: вот мы, вот царство Польское, вот Галиция, вот горы, Карпаты, вот Дунай, клал вишенки, чертил ложечкой, получалось красиво, а вот Вена. Мужики и бабы и мать, старуха-хозяйка, смотрели как завороженные. Полицейскому чину не понравилось: да как же так, это же враг, лютый враг, проклятый немец, садист и насильник, аспид, упырь, про страшные зверства немцев расписывали газеты каждый день, а тут получался вроде не враг, а смешно, не враг, а какая-то каша на киселе, бабы хихикали. Тогда он спросил, а где сейчас наши войска, как далеко мы зашли в Галицию, в Австрию, близко ли уж будет город Краков, который мы вот-вот должны взять, он читал в газете. Общипанный барин подвинул тарелку поближе и посмотрел куда-то внутрь нее, сказал, что не знает, трудно сказать, вот тут идет фронт, и вдруг разрубил ложкой всю кашу, весь кисель, все как-то брызнуло, мать нахмурилась, и полицейский чин пошел прочь, приговаривая про себя – врешь, врешь, общипанный барин, все ты знаешь. И теперь, забирая парней, забирая мужиков в эту самую Австрию воевать, он думал о том, как она все-таки далеко, невероятно далеко, и вместе с тем совсем рядом, поскольку любой мужик из Лазинок может оказаться в ней, буквально любой, она стала близкой, а к пятнадцатому году, к лету, молодых парней в деревне уже совсем не оставалось, и скоро очередь дошла и до Матвея Горелого, но к нему у Афанасия Петровича, полицейского чина, был особый счет, и по-особому он ждал, когда дойдет очередь до этой приземистой ласковой избы…
А в ней, в этой избе, проживала во грехе с Матвеем одна женщина, Савченкова