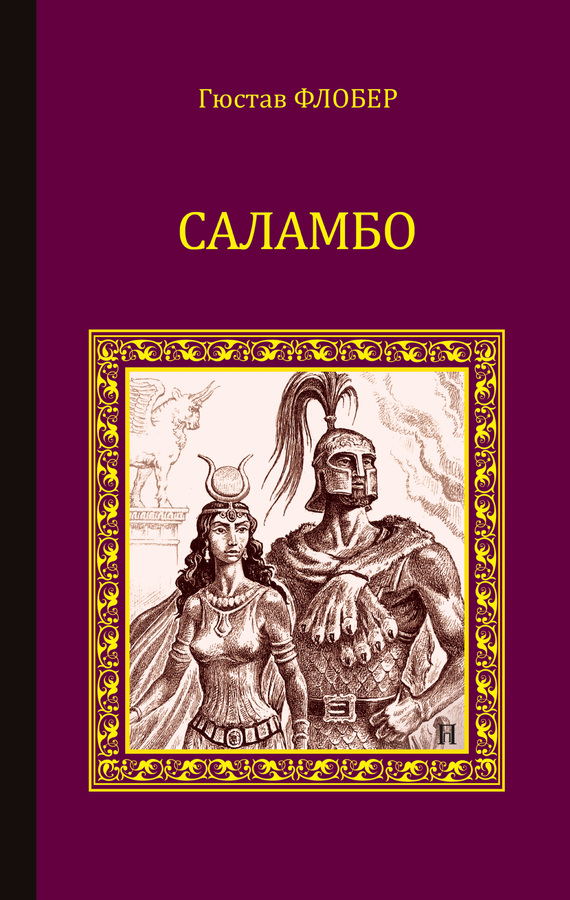у всех он побежал вверх по ступеням, украшенным галерами, поднялся по трем лестницам и, достигнув красной двери, толкнул ее изо всех сил. Задыхаясь, он прислонился к стене, чтобы не упасть.
Кто-то следовал за ним, и во мраке – огни пиршества были скрыты выступом дворца – он узнал Спендия.
– Уходи, – сказал ливиец.
Раб ничего не ответил, разорвал зубами свою тунику, потом опустился на колени перед Мато, нежно взял его руку и стал ощупывать ее в темноте, отыскивая рану.
При свете луны, выглянувшей из-за облаков, Спендий увидел на середине руки зияющую рану. Он обмотал ее куском ткани; но Мато с раздражением повторял:
– Оставь меня, оставь!
– Нет, – возразил раб. – Ты освободил меня из темницы. Я принадлежу тебе. Ты мой повелитель! Приказывай!
Мато, скользя вдоль стен, обошел террасу. На каждом шагу он прислушивался, и в промежутки между золочеными прутьями решеток взгляд его проникал в тихие покои. Наконец он в отчаянии остановился.
– Послушай! – сказал ему раб. – Не презирай меня за слабость! Я жил во дворце. Я могу, как змея, проползти между стен. Идем! В комнате предков под каждой плитой лежит слиток золота, подземный ход ведет к их гробницам.
– Зачем мне богатство! – сказал Мато.
Спендий умолк.
Они стояли на террасе. Перед ними был мрак, в котором, казалось, скрывались какие-то громады, подобные волнам окаменевшего черного океана.
Но вот в восточной стороне неба появилась светлая полоса. Слева, внизу, каналы Мегары прочертили белыми извилинами зелень садов. В свете бледной зари стали понемногу вырисовываться конические крыши семиугольных храмов, лестницы, террасы, укрепления; вдоль всего карфагенского полуострова задрожала кайма белой пены, а изумрудное море точно застыло в утренней прохладе. По мере того, как розовело небо, все яснее обозначались на склонах высокие дома, похожие на стадо черных коз, которое спускается с гор. Пустынные улицы удлинялись, уходили вдаль; пальмы, кое-где выглядывавшие из-за стен, стояли неподвижно. Полные доверху водоемы казались серебряными щитами, брошенными во дворах. Маяк Гермейского мыса побледнел. На верху акрополя, в кипарисовой роще, кони Эшмуна, чувствуя близость утра, становились копытами на мраморную ограду и ржали, повернув головы в сторону солнца.
Солнце взошло; Спендий, воздев руки, испустил крик.
Все зашевелилось в разлившемся багрянце, – бог, точно раздирая себя, в потоке лучей изливал на Карфаген свой золотой дождь. Сверкали тараны галер, крыша Камона казалась охваченной пламенем, засветились огни в открывшихся храмах. Колеса возов, прибывших из окрестностей, катились по каменным плитам улиц. Навьюченные поклажей верблюды спускались по тропам. Менялы открывали на перекрестках ставни своих лавок. Улетали аисты, трепетали белые паруса. В роще Танит ударяли в тамбурины священные блудницы, у околицы Маппал задымились печи для обжигания глиняных гробов.
Спендий наклонился над перилами террасы; у него стучали зубы, и он повторял:
– Да, да, повелитель!