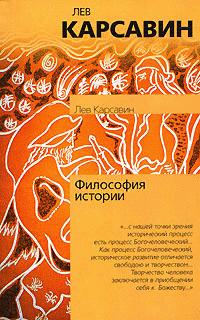включит и халифа Омара. Но дело в том, что историк не менее беспомощен и тогда, когда ставит проблему о причинах Великой Французской Революции или Крестовых походов. Не спорили бы так долго и бесплодно друг с другом историки-идеалисты и историки(?) – материалисты, если бы причинную связь исторических фактов установить было легко, скажу более – возможно. Знаменательное явление – всякий добросовестный и понимающий свое дело историк, приступая к анализу канонизированного уже причинного объяснения в изучаемой им области, сейчас же начинает чувствовать неудовлетворенность, изыскивать и указывать другие причины. И разве не заслуживает искреннего сожаления историк, поставивший себе целью написать обобщающий труд и несогласный признать какую-нибудь одну «универсальную» причину исторических явлений, например – «организацию производства»? Он принужден перечислять указанные его предшественниками и найденные им самим причины, одну за другой, ибо все представляются, хоть немного, да действовавшими. Он не в силах разобраться среди множества их и сказать, какая из них важнее, какая влияла больше, чем прочие.
Допустим, что мы хотим определить причины крестьянских войн в эпоху Реформации в Германии. Мы легко вскроем в них религиозный момент и вполне естественно придем к предположению, если не о решающем, то о значительном влиянии его на ход событий, т. е. признаем его одною из причин. И действительно, если даже совершенно устранить его из ряда волнений, без него не объяснить ни мотивировки крестьянских требований Св. Писанием, ни, тем более, движения Фомы Мюнцера. Можно даже, и не без видимого успеха, рассматривать крестьянское движение начала XVI в. как следствие осмысливания жизни и социальных отношений с точки зрения нового религиозного идеала. Ведь это осмысливание не должно непременно всегда и всеми опознаваться, и признавая, что классовый мотив может, оставаясь неопознанным, определять идеологию, нет оснований отрицать подобную же действенность в мотиве религиозном. В наше же время постоянных, пожалуй, более всего полезных историкам-материалистам, ссылок на бессознательную психическую деятельность, обойтись без такого предположения просто неприлично.
Сосредоточиваясь даже на самом процессе религиозного осмысления жизни, а вернее – на религиозно-идеологическом процессе в его обращенности и на жизнь, мы усматриваем, что он предстоит нам в качестве непрерывного потока, начавшегося до восстаний, замирающего после них, в момент же восстаний достигающего (в важном для нас качествовании своем) апогея. И момент апогея – «момент» условный: его не отделить ни от предшествующих, ни от последующих. Если же так, то нельзя считать его причиненным первыми и причиняющим вторые. Для установления причинной связи прерывность является условием необходимым. Всякие попытки выйти из затруднения путем указаний на какую-то особенную «историческую» или «психическую» причинность надо устранить, так как они сводятся к констатированию необъяснимого факта. Но нам, пожалуй, возразят иначе. – «В действительности, скажут нам, непрерывный процесс – иллюзия. Он всецело разлагается на бесконечно малые обособленные