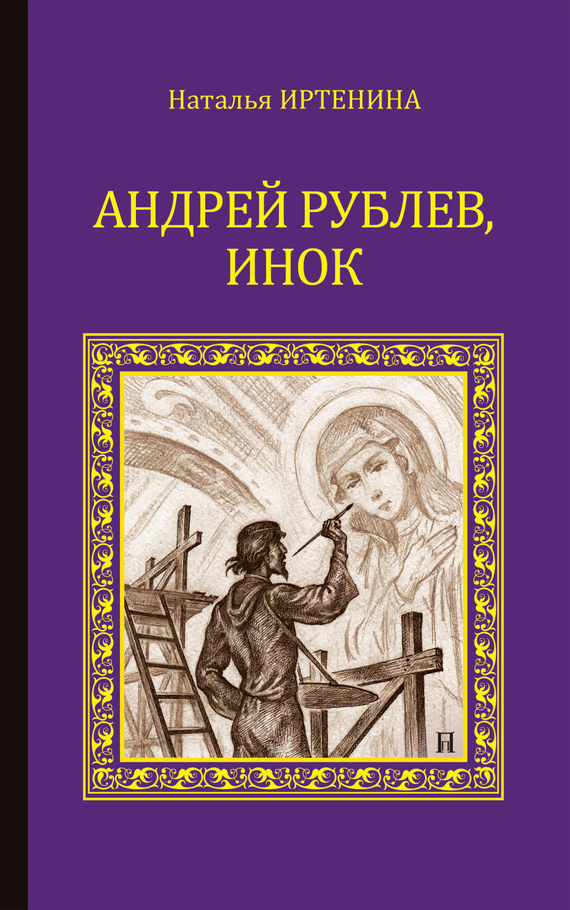Видел я тебя с ним, как на одной лошади трусили. Я тут все лесные ходы знаю, а вечор к бабе своей наведывался.
– Что же ты не с бабой живешь?
– Дык она здесь, а я с бойниками промышляю, – снова оскалился лесной житель.
– Ты разбойник? – Андрей оставался спокоен. – А зачем я тебе? Мне даже за хлеб отблагодарить нечем.
– Говорю ж, узнал тебя. Андрейка ты, иконник московский. Собор тутошний расписывал два лета тому. На-ка, хлебни воды.
– Так ведь и я тебя, верно, знаю. – Монах приблизился к нему и вгляделся. Взял протянутую баклажку. – Ты звонарь успенский! Тот, что исчез в Едигееву зиму, когда в ризницах поймали грабителей.
Он сделал несколько глотков и вернул баклажку.
– Был звонарь, – усмехнулся знакомец. – А теперь я Ванька Звон, бойник лесной. Пошли, чернец. Выведу тебя на дорогу. А брать у тебя, если б и было что, не хочу.
Закинув торбу на плечо, он зашагал впереди. Андрей смотрел, как он идет – мягко ступая ногами в лаптях, подныривая под ветки и обтекая телом сучья, чтобы ничего не хрустнуло, не заломалось. И путь на глазок подбирал хотя не самый короткий, кружной, но легкий, чтоб не продираться сквозь чащобу.
– А ты вечор чуть в самую гнилую топь не угодил, – довольным голосом рассказывал Ванька Звон. – Я по следу твоему пошел, едва заревать стало. Ночевал тоже в лесу, чтоб спозарань тебя найти. Тут ноне беспокойно. Мог набрести на кого не надо. Курмышские люди недалече сторожи раскинули. Фотия-митрополита на погосте не сыскали, убег от них. Еще и с рассвета рыщут, верно. Али на бойников бы моих напоролся. Тоже неладно.
– А в городе что, знаешь?
– Не был там. Баба моя с детями к родне на Власьевский погост перебралась. – Ванька повествовал охотно, будто соскучился в лесах по доброму разговору о житье-бытье. – Блядет, вестимо. Дык я ее прощаю. Оно и ясно: тошно бабе в соку при живом муже вдовой быть. Пару раз вожжой по ней пройдусь, да и ладно. Опосля жалею ее на сеновале. Отходчивый я. А женка у меня утешистая, на любы горячая. – Он обернулся и посмотрел с хитриной в глазах. Андрею в его словах слышалась изрядная скоморошина. Будто не просто так рассказывал, а нащупывал в человеке слабину, чтобы потом только в нее и бить со смехом и глумами. – Полюбовник ее давеча до городу наведывался. Быстро вернулся. Баял, весь град огнем запален, а татарва полоняников через реку погнала.
– Много ль? – взволновался Андрей.
– С полтыщи, сказывал. Данила нижегородский племяшу своему, князю московскому отомстил, – заключил Ванька. – Колоколы жалко. Разольются в пожаре. Мне ночами снится, как я звонарю… А все из-за пары гривенок. Страшно охочий я до серебришка. Пришли ко мне те двое, которых потом в соборе повязали, выложили две гривенки на стол. Так, мол, и так, дело есть, и еще больше получу, ежели подсоблю. Князь, мол, некий платит за то, чтоб пограбить чуток успенские ризницы. Ковчежец, мол, некий нужен ему, особенный. Ну да мне что, князь так князь. Мало, что ль, на Руси княжья. Пошел к ключарю Патрикею да напоил его вином, ключи забрал. Отворил ночью ризницы, пустил татей.