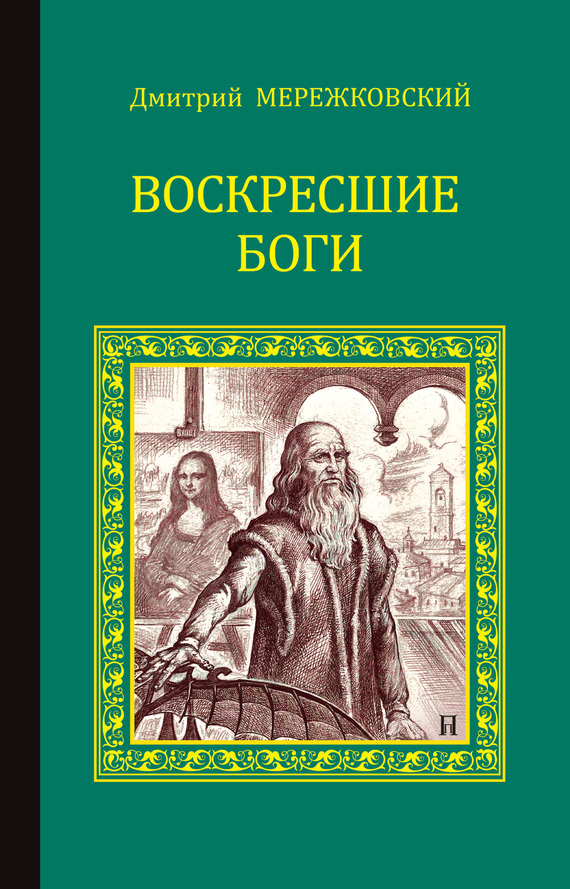церквах зазвонили к повечерию. Доффо радостно потянулся и захлопнул книгу. Работа была кончена. Лавки запирались.
Джованни вышел на улицу. Между мокрыми крышами было серое небо с едва уловимым розовым оттенком вечера. В безветренном воздухе сеял мелкий дождь.
Вдруг из открытого окна в соседнем переулке послышалась песня:
О, vaghe montanine е pastorelle.
О, девы гор, о, милые пастушки.
Голос был молодой и звонкий. Джованни догадался, по равномерному звуку подножки, что поет ткачиха за станком.
Заслушался, вспомнил, что теперь весна, и почувствовал, как сердце бьется от беспричинного умиления и грусти.
– Нанна! Нанна! Да где же ты, чертова девка? Оглохла, что ли? Ужинать ступай! Лапша простынет.
Деревянные башмаки – цокколи – бойко застучали по кирпичному полу – и все умолкло.
Джованни стоял еще долго, смотрел на пустое окно, и в ушах его звучал весенний напев, подобный переливам далекой свирели —
О, vaghe montanine е pastorelle.
Потом тихо вздохнул, вошел в дом консула Калималы и, по крутой лестнице с гнилыми, шаткими перилами, изъеденными червоточиной, поднялся в большую комнату, служившую библиотекой, где сидел, согнувшись за письменным поставцом, Джорджо Мерула, придворный летописец миланского герцога.
III
Мерула приехал во Флоренцию, по поручению государя, для покупки редких сочинений из книгохранилища Лоренцо Медичи и, как всегда, остановился в доме друга своего, такого же, как он, любителя древностей, мессера Чиприано Буонаккорзи. С Джованни Бельтраффио ученый историк познакомился случайно на постоялом дворе, по пути из Милана, и, под тем предлогом, что ему, Меруле, нужен хороший писец, а у Джованни почерк красивый и четкий, взял его с собой в дом Чиприано.
Когда Джованни входил в комнату, Мерула тщательно рассматривал истрепанную книгу, похожую на церковный требник или псалтырь. Осторожно проводил влажною губкою по тонкому пергаменту, самому нежному, из кожи мертворожденного ирландского ягненка, – некоторые строки стирал пемзою, выглаживал лезвием ножа и лощилом, потом опять рассматривал, подымая к свету.
– Миленькие! – бормотал он себе под нос, захлебываясь от умиления. – Ну-ка, выходите, бедные, выходите на свет Божий… Да какие же вы длинные, красивые!
Он прищелкнул двумя пальцами и поднял от работы плешивую голову, с одутловатым лицом, с мягкими, подвижными морщинами, с багрово-сизым носом, с маленькими свинцовыми глазками, полными жизни и неугомонной веселости. Рядом, на подоконнике, стоял глиняный кувшин и кружка. Ученый налил себе вина, выпил, крякнул и хотел опять погрузиться в работу, когда увидел Джованни.
– Здравствуй, монашек! – приветствовал его старик шутливо: монашком называл он Джованни за скромность. – Я по тебе соскучился. Думаю, где пропадает? Уж не влюбился ли, чего доброго? Девочки-то во Флоренции славные. Влюбиться не грех. А я тоже времени даром не теряю. Ты этакой забавной штуки от роду, пожалуй, не видывал. Хочешь покажу? Или нет – еще разболтаешь. Я ведь