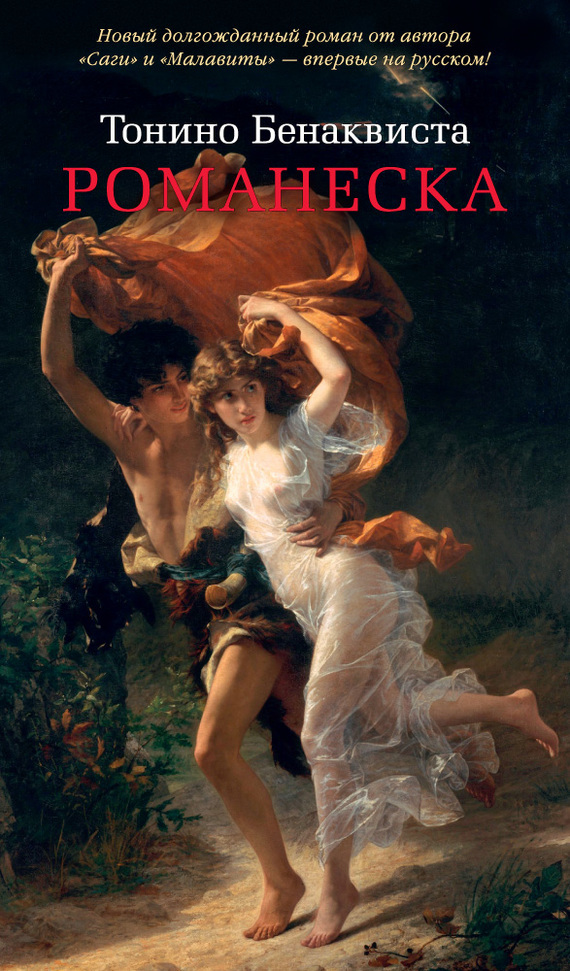как умение читать. Их считали неспособными к учению, а они готовы были вдвоем одолеть такое трудное дело, словно мало им было слияния сердец и тел, подавай им еще и духовное единение.
Один монах, переписчик рукописей, сочтя их просьбу не только безрассудной, но и пагубной, заявил, что они не смогут постичь секреты самого ученого из языков – настоящего французского: это им не грубый просторечный говор, который не понимают даже в соседней деревне. И потом, что за безумие, что за дурацкое желание приобрести ученость, рискуя, если об этом кто-то проведает, навлечь на себя массу неприятностей.
Исчерпав все доводы, он отвел гостей в скрипторий, где хранились рукописи, чтобы они поняли, на какую голгофу им предстоит подняться.
Воротившись домой, они занялись освоением алфавита, в том виде, в каком преподал его им монах, привнося в учебу новшества, которые человек благочестивый назвал бы похотливыми: так вместо подставки для книг они предпочитали использовать некоторые изгибы своих тел, а в каждой из двадцати шести букв им виделась заглавная буква одного из тех слов, что шепчут в алькове. Ничего не подозревая об этих ученых утехах, односельчане не могли смириться: таинство, скреплявшее отныне их союз, узаконило их отношения, но – вот насмешка! – оно же усугубило и их безразличие к окружающим. В самые холодные зимние дни односельчане представляли себе, как, уютно устроившись у огня и до отвала наевшись бобов и каштанов, они насмехаются над бедолагами, бившимися снаружи.
Однако, если на них не действовали законы морали, был и другой закон, гораздо более суровый. С приходом тепла пробил час уплаты подати – час, которого боялись все, и те, кто не имел денег вовсе, и те, у кого они водились в достатке, поскольку платежей было множество и взимались они со строгостью. Управляющий владениями местного сеньора и его податной, оснащенные весами и счетными книгами, были в этом году встречены доброжелательно, поскольку селян, казалось, не столько заботила уплата собственных долгов, сколько они жаждали увидеть, как будут расплачиваться эти двое наглецов. Поэтому обычно печальная процедура прошла в веселом расположении духа: люди шли, таща с собой кто мешок зерна, кто кошель с деньгами, будто в уплату за место на предстоявший спектакль.
Супруги явились, не принеся с собой ни гроша, ни щепотки муки, ничего, что можно было бы изъять. Однако неплатежеспособная семья представляла собой особый случай: к ним нельзя было ни применить фиксированные налоги, взимавшиеся с земледельцев, ни взять с них плату за аренду, ни удержать часть полученного урожая. Они не использовали ни мельниц, ни печей, ни давилен, предоставлявшихся в их распоряжение сеньором. Нельзя было обложить их и налогом на открытие бочек, поскольку никаких бочек они не открывали. Однако они пользовались дарами природы, а потому подлежали обложению полевой податью, которую можно было уплатить, отбыв трудовую повинность в пользу землевладельца.
Им назначили шестьдесят дней работ, в течение которых каждое утро