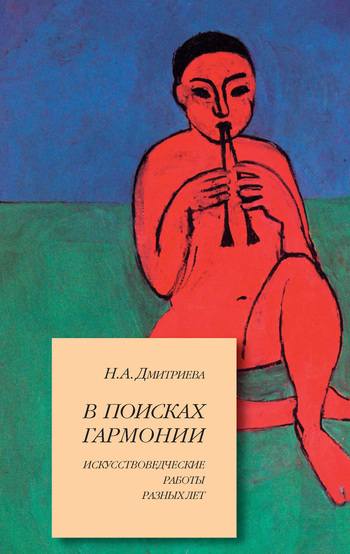странной. Как мог Толстой, спрашиваем мы себя, не оценить до достоинству Шекспира? Почему Бунин не признавал поэзию Блока? Отчего Цветаева не любила Чехова, а любила Ростана? Не странно ли, что Сезанн пренебрежительно отзывался о живописи Ван Гога? Неужели они «не понимали»?
Нет оснований думать, что Толстой осуждал Шекспира только из вне-эстетических, прежде всего религиозно-нравственных, соображений. Такие соображения у Толстого были, однако он выделял их в особый ряд, не смешивая с оценкой художественных качеств. По всей вероятности, произведения Шекспира действительно не вызывали у Толстого эстетического отклика. Последний зависит не столько от какого-то абстрактного «понимания» искусства вообще, сколько от избирательного сродства именно с этим художником, этим произведением. (По-другому это можно назвать психологической совместимостью.)
Но и когда имеется такое сродство, образ произведения, данный в эстетическом восприятии, не будет вполне тождествен авторскому, а будет от него чем-то отличаться. Потебня сравнивал процесс восприятия с зажиганием одной свечи от другой: «Пламя свечи, от которого зажигаются другие свечи, не дробится; в каждой свече воспламеняются свои газы». Он цитировал В. Гумбольдта: «Всякое согласие в мыслях – разногласие», «В душе нет ничего, кроме созданного ее самодеятельностью»3.
Эстетическая реакция на произведение искусства как бы творит его новый вариант из собственного «горючего материала». Не так же ли поступает и художник по отношению к явлениям действительности, пробуждающим его творческую волю? Он их не воспроизводит, но преобразует. Волевое начало заложено и во вторичном творческом акте, то есть в восприятии художественного произведения: возникает потребность в каком-то действии, направленном на предмет восприятия. Чисто пассивное созерцание оставляет осадок неудовлетворенности, не насыщает, так же как живописца не насыщает смотрение на полюбившийся предмет: он должен взять кисть. А что может сделать зритель, смотрящий на его картину? «Что делать нам с бессмертными стихами?»
Чем эстетическое переживание интенсивнее, тем настоятельнее ищется выход к действию, тем сильнее тревога от бездействия, порою мучительная. Она описана Толстым в «Крейцеровой сонате»: «Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, – Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, – это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, – нет».
Позднышев, герой повести Толстого, испытывает муки эстетической безысходности, слушая музыку «в гостиной среди декольтированных дам». Другие гости их не испытывают, они не реагируют