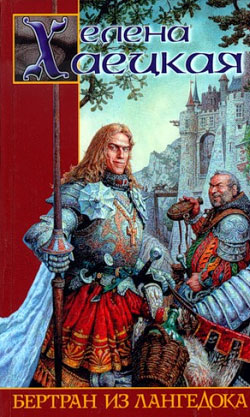повернулась и вышла в ночную темноту. Постояла, пока привыкнут глаза, прижала юбку к бедрам, чтобы не хлопала на ветру. Разглядев поблизости темную фигуру, испугалась.
– Это я, – проговорил мужской голос, и она узнала Иеронимуса. – Не бойся. Он много денег дал тебе?
– Не твое дело.
Монах пожал плечами.
– Смотри, чтобы Агильберт наутро не передумал.
– Я умею постоять за себя, – заявила Хильдегунда.
– Не сомневаюсь. Но тебе лучше уйти прямо сейчас.
Женщина помедлила, потом спросила:
– Как ты думаешь, я действительно возвратила себе невинность?
– Я думаю, ты раздобыла себе неплохое приданое, Хильдегунда.
Она еще немного помолчала, прежде чем сказать:
– Ты погубил свою душу.
Иеронимус хмыкнул – его позабавила убежденность, прозвучавшая в голосе женщины.
– Не думаю.
– Да, погубил. И все ради падшей женщины.
– Многое зависит от того, как ты распорядишься своими деньгами, Хильдегунда.
– Лучше бы мне оставаться бедной.
– Бедность и добродетель редко ходят рука об руку.
– Разве не в бедности возвышается душа?
– Душа возвышается в умеренном достатке, – сказал Иеронимус. – Бедность – слишком тяжелое испытание, и слабым оно не под силу.
Женщина стояла неподвижно. Ветер шевелил ее распущенные волосы. Вдруг она подхватила юбки и бросилась бежать.
Иеронимус смотрел ей вслед и улыбался.
Бальтазар Фихтеле
Шел себе и шел человек по лесной дороге, нес лютню за спиной, и еще был у него при себе нож. Одет был в дрянную мешковину, рожу имел круглую, веселую, сложение богатырское. Из Хайдельберга шел он и с гордостью сообщал о себе – «literatus sum». Вот и взяли его в Свору Пропащих, как подбирали по дороге все, что плохо лежало.
Вечером хорошо послушать, как врет Фихтеле. Только не нужно чрезмерно наливать ему из фляги, а то петь возьмется. Ничего более ужасного и косноязычного, чем пение студента, невозможно себе представить. А глотку ему заткнуть чрезвычайно трудно.
Dir, mein liber schatz,
Geb ich hanttruvebratz,
Damit du dich erinne
An minne…[6]
В лесу сыро, темно августовскими ночами. И так тихо, что слышно, как собаки лают в деревне, до которой еще полдня ходу. Раскладывали костер побольше. Докуда хватает свету, там и стены, а за стенами – ночь, волки и кое-что похуже, лучше и не думать.
– Расскажи еще про Хайдельберг, – просит Эркенбальда.
Она теперь большая дама, спит с капитаном, о Хильдегунде ни слова.
– Чудно, – говорит простодушный Ремедий Гааз. – Ведь мы были в Хайдельберге прошлой весной. А Фихтеле послушать – совсем другой город. И где были мои глаза, коли я всех этих чудес не разглядел?
Все хохочут.
Быв в Хайдельберге студентом, наведывался Фихтеле к одной замужней даме. Жила она в богатом доме при небольшом садике. Садик располагался с западной стороны, и Фихтеле никогда там не бывал. Слишком открытое место, неровен час увидят соседи. Потому с наступлением ночи