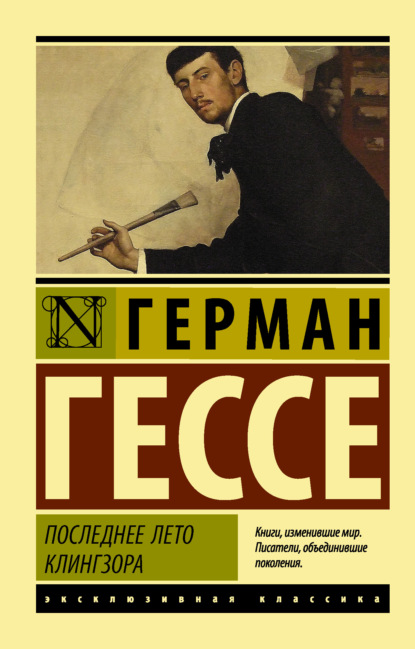с небес в обыденность, с величественных высот в болото низменного и жалкого? Неужели этим героям и святым был неведом первородный грех? Неужели все святое и благородное было уделом только немногих, только редких избранников? Но почему, если я, значит, не был избранником, мне все-таки были присущи это стремленье к прекрасному и благородному, эта неистовая, надрывная тоска по чистоте, по доброте, по добродетели? Разве это не насмешка? Неужели так заведено в Божьем мире, чтобы человек, мальчик, носил в себе одновременно все высокие и все злые стремленья, чтобы он, существо несчастное и смешное, страдал и отчаивался на потеху взирающему на него Богу? Неужели так заведено? Но тогда – разве тогда весь мир не дьявольщина, только того и заслуживающая, чтобы на нее наплевать?! Разве тогда Бог не изверг, не безумец, не глупый, гадкий фигляр?.. Ах, и в те самые мгновенья, когда я не без сладострастья предавался этим мятежным мыслям, робкое мое сердце уже трепетало, наказывая меня за богохульство!
Как отчетливо через тридцать лет вижу я снова перед собой ту лестничную клетку – с высокими подслеповатыми окнами, выходившими на близкую стену соседнего дома и дававшими очень немного света, с добела выскобленными еловыми лестницами и площадками, с гладкими перилами твердого дерева, до блеска отполированными оттого, что я тысячи раз опрометью по ним съезжал! Как ни далеко от меня детство, как ни кажется оно мне в целом непонятным и сказочным, я и поныне прекрасно помню все страданье и весь разлад, которые жили во мне уже тогда, среди счастья. Все эти чувства были уже тогда в сердце ребенка тем, чем они оставались всегда: сомнением в собственной полноценности, колебанием между самомнением и малодушием, между презирающим мир идеализмом и обыкновенной чувственностью, – и так же, как тогда, я сотни раз и позднее видел в этих чертах моей натуры то позорную болезнь, то почетное отличие, и я верю порой, что этим мучительным путем Бог хочет привести меня к особому одиночеству и глубине, а порой не вижу во всем этом ничего, кроме свидетельства жалкой слабохарактерности, невроза, от которых тысячи людей страдают всю жизнь.
Если бы мне надо было свести все это мучительное противоборство чувств к какому-то главному ощущению и определить его каким-то одним названием, то я не нашел бы другого слова, как «страх». Страх, страх и неуверенность – вот что испытывал я во все эти часы отравленного детского счастья: страх перед наказанием, страх перед собственной совестью, страх перед движениями моей души, на мой тогдашний взгляд, запретными и преступными.
В час, о котором я повествую, это чувство страха вновь охватило меня, когда я по все более светлевшей лестнице приближался к стеклянной двери. Оно начиналось с теснения в животе, которое поднималось к горлу и там переходило в удушье или тошноту. Одновременно в такие минуты, и на этот раз тоже, я чувствовал ужасное смущение, недоверие к любому, кто мог бы меня увидеть, потребность уединиться и спрятаться.
С этим неприятным