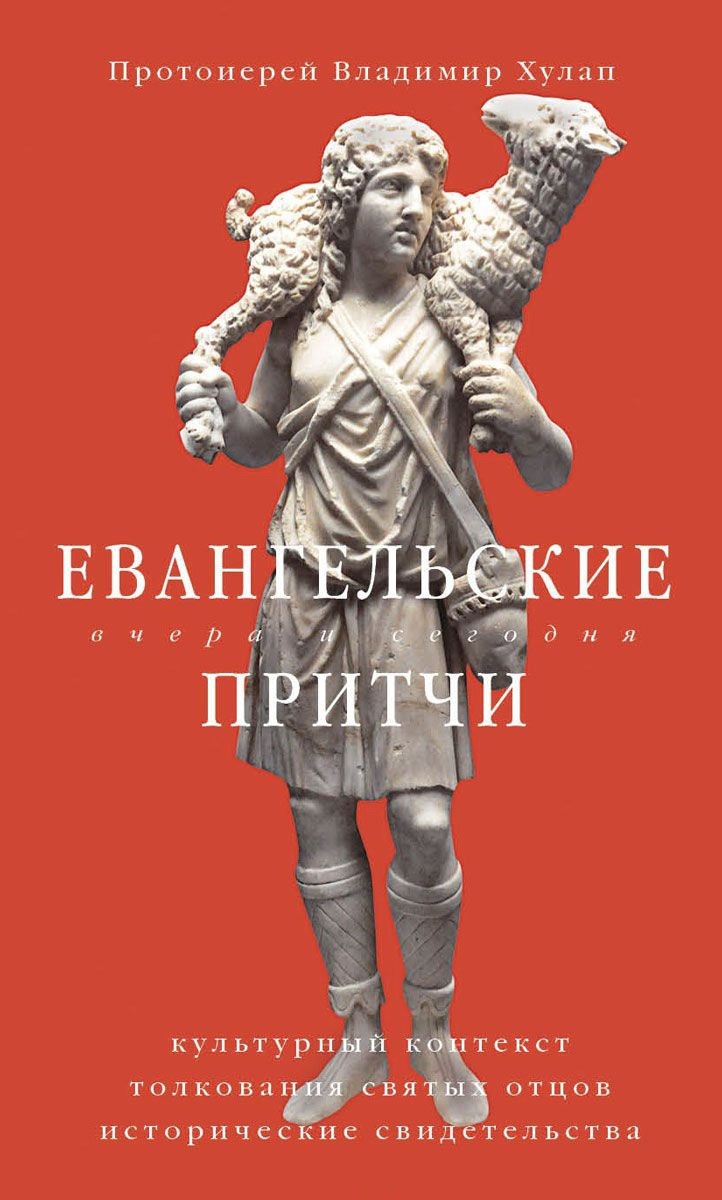Евангельские притчи вчера и сегодня. Культурный контекст, толкования святых отцов, исторические свидетельства
приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: «что это такое?» Он сказал ему: «брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Странный дар
Многие наши современники говорят, что верят в Бога, но вопрос о том, в какого Бога они верят, очень часто повергает их в замешательство. Зачастую их образ Бога эклектичен, сформирован на основании собственных воззрений, предпочтений, жизненного опыта, страхов и ожиданий. Каков же Бог, в Которого верят христиане? О Нем говорится во многих притчах, но среди них есть одна, которую обычно называют притчей о блудном сыне, хотя ее вполне можно было бы назвать и притчей о любящем Отце. Чарльз Диккенс назвал ее прекраснейшим рассказом, написанным за всю историю человечества. Однако перед нами не просто замечательное литературное произведение, а евангельская притча, которая относится к каждому из нас. Рассказывая ее, Христос открывает нам истинный образ Бога – не просто сотворившего наш мир и давшего нам жизнь, но чрезвычайно близкого и неравнодушного к каждому из нас, Бога, Который есть любовь (см.: 1 Ин. 4: 8).
Как видно из первых стихов притчи, Бог любит нас настолько, что позволяет делать свой собственный выбор, – и именно это обычно больше всего смущает нас. На протяжении последних столетий человечеству настойчиво и успешно внушали основные положения детерминизма, учения об обусловленности всех наших действий: мы не в ответе за свои поступки, мы – игрушка в руках внешних обстоятельств. Еще Спиноза сравнивал рассуждения человека о его свободе с мыслями падающего камня, говоря, что мы обладаем лишь иллюзией свободы. Карл Маркс доходчиво объяснял, что человек – продукт окружающих его экономических условий, Зигмунд Фрейд стремился показать, что поведение определяется неудовлетворенными половыми желаниями, а генетика уверяет нас, что жизнь в значительной мере предопределена еще до момента рождения полученным от родителей хромосомным набором. Люди охотно используют эти и другие подобные теории для оправдания своих ошибок и падений – чтобы не нести за них ответственность.
Однако Священное Писание являет нам иной взгляд на человека: с первых страниц Книги Бытия и до заключительной панорамы Апокалипсиса мы видим человека, наделенного свободой. Это слово означает сегодня для многих совсем не то, что вкладывает в него христианство. Сейчас, говоря о свободе, мы чаще всего имеем в виду свободу индивидуума от тех или иных предписаний (в том