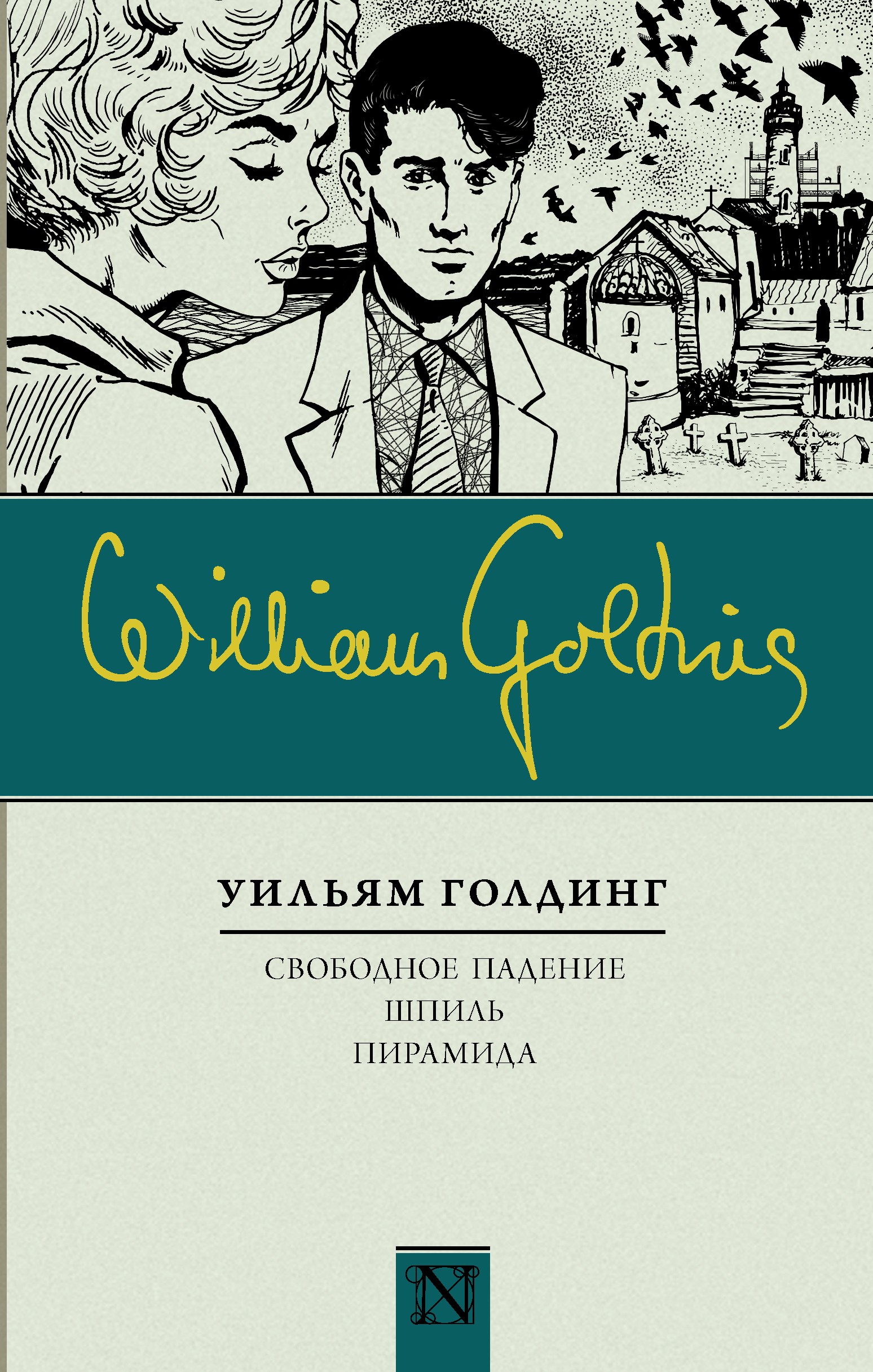не умеет распознавать вред, и вот отчего правы жуткие народные поговорки. Наивный простак не может простить обиду, потому что он ее даже не видит. И это я тоже считаю крупицей естествознания. Природа нашей Вселенной такова, что сильный и кристально чистый поступок взрослого человека залечивает рану и разглаживает рубец – хотя и не в дне сегодняшнем, а в грядущем. Рана, которая могла продолжать кровоточить и гноиться, превращается в здоровую плоть, а самого акта исцеления вроде как и не было. Да, но как святая простота может в этом разобраться?
Так что же втолковывал мне церковный сторож? Неужто просил прощения за всю эту эпопею, начиная с момента, когда мы с Филипом состряпали свой план? Но ведь он не знал всей правды… по крайней мере, я на это рассчитывал. Может, он сожалел о том, что мальчишки – бесенята и что их наглый и лютый мир сокрушит высокие стены авторитетов и власти? Зримая мне правда в том и состояла, что мир взрослых врезал мне по заслугам, за сознательно совершенное дерзкое и безнравственное деяние. Скорее из туманных образов, а не силой мысли я вывел, насколько взвешенной и точно отмеренной была обрушенная на меня кара. Алтарь я оплевал отнюдь не вдоль и поперек: слюны не хватило. Но я-то собирался на него помочиться. Мой ум съежился от страха за последствия, которые могли меня ждать, если б я не успел троекратно облегчиться на пути к храму. Взрослых за такое вешают, а шкодники отделываются розгами. Мой трезвый и благодарный взгляд отметил точную параллель между деянием и воздаянием. И чего мне тут прощать?
Сторож так и продолжал сидеть с вытянутой рукой. Я ее внимательно осмотрел, взглянул ему в лицо и решил подождать.
Наконец он вздохнул, забрал свой котелок с тумбочки и поднялся. Кашлянул, прочищая глотку.
– Что ж…
Повертел шляпу в руках, пососал ус, похлопал глазами. А засим удалился спорым шагом, неслышно ступая своими профессиональными башмаками с толстой мягкой подошвой по центру больничного коридора, а оттуда в двустворчатую дверь.
Бабах.
Так, а когда же я обнаружил, что высокий пастор был отныне моим опекуном? Препарировать его мотивы не получится, потому что я его так и не понял. Может, он раскрыл Библию и, ткнув пальцем, тем самым определил мою участь? Или я задел в нем какую-то струнку сильнее, чем могу себе представить? Приложил свою руку сторож? Или я был его искуплением, расплатой не за тот одиночный удар, а за бесчисленное множество окаменевших треволнений и несостоятельностей, старых грехов и упущений, которые зачерствели неподатливой черной глыбой? А не был ли я запретным плодом, упавшим в руки, но покамест не пожранным? Как бы то ни было, но результат вряд ли принес ему массу добра, не наделил безмятежным покоем. Другие люди понимали пастора не больше, чем я. Они вечно посмеивались за его спиной – а могли бы в лицо, не пестуй он столь старательно свое одиночество и затворничество. Он даже фамилию носил нелепую: Штокчем. Мальчишки из церковного хора находили очень забавным давать друг другу советы: «Скажи, что к чему». Эх, вот бы мне сейчас окинуть