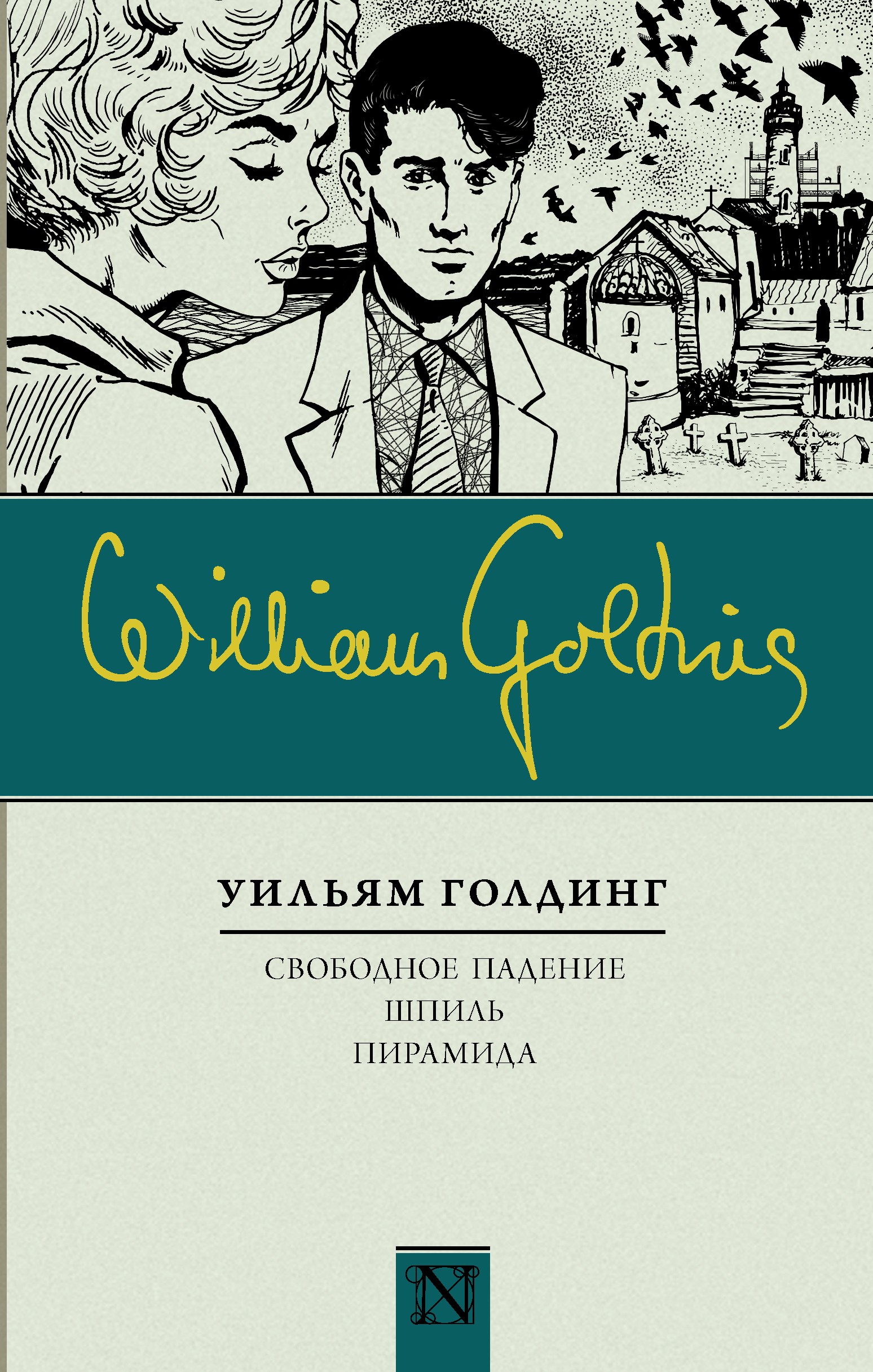несносен и лишь в последнее время слегка реабилитировался своим поведением, – как бы я ни старалась придерживаться обычных функций моего женского существования, допустив тебя до этой границы, правила игры должны быть соблюдены, а ты их нарушил и оскорбил мое достоинство.
Так мы и стояли: она на нижней ступеньке, я – держась за перила, с красным галстуком через правое плечо, куда его занесло моим буйным порывом.
– Беатрис! И все-таки?…
У нее были такие ясные глаза… Безмятежные, серые, честные – потому что ей никогда не предлагали плату за бесчестие. Я заглянул в них, ощутил беспощадную и отчужденную чистоту. Она довлела сама себе. Ничто и никогда не возмущало эти воды. Простри я к ней длань – доведенный до отчаяния и взмолившийся, косноязыкий и кипящий в океане зеленой юности, гонимый его приливами и отливами, – она лишь осмотрела бы ее, уставилась на меня и принялась недоуменно поджидать, чего мне надо.
– …все-таки танцевала?
Негодование и надменность, хотя и в уменьшенном масштабе, потому что леска, как ни крути, была толщиной с волосок, и принимать это оскорбление близко к сердцу – значит подразумевать, что я и впрямь посягнул на ее независимость.
– Может быть.
И с чу`дной грацией нырнула в дом.
Насколько велик жар сердечного чувства? И где взять тот индикатор, который бы показывал: вот, столько-то градусов? Я прокладывал обратную дорогу сквозь Южный Лондон, силясь выплыть из собственных раздумий. Я говорил себе: не надо преувеличивать; ты даже не совершеннолетний; будут вещи и похуже. Однажды ты сам скажешь: и я считал, что был влюблен? Еще в те далекие годы? Он был влюблен. Ромео был влюблен. Лир умер от разбитого сердца. Но где инструмент для сравнения? Докуда на длинной шкале добрался Сэмми? Ибо сейчас мои запястья, щиколотки и шею обвивали грубые веревки. Они протянулись по улицам, легли у ее ног: на, возьми их в руку, если хочешь. Что за пытка ехать прочь, волоча за собой многомильные канаты, и знать, что она не захотела… Может, она сама была привязана, в другом направлении? Но в это я не верил. При моем лихорадочном жаре процессы развивались быстро. Я был специалистом-психологом узкого профиля. Видел ее глаза, прочел в них безмятежность. Что за болван требовал знать, где она провела вечер, хотя при этом сам понимал, до чего тонкой была эта нить в самом начале? Никакого риска не имелось. Ее сердце осталось незатронутым, и единственной угрозой был неисповедимый господин случай, при столкновении с которым она могла вдруг полыхнуть. Я вошел в свою комнату, похлопывая кулаком по ладони.
Утешением была партийная работа. Председательствовал Роберт Олсоп, и атмосфера была насыщена дымом и значительностью. Остальные стояли, сидели или вовсе лежали, исполнившись возбуждения и презрения. Все архичертовски скверно, товарищи. Но не опускайте руки: уж кто-кто, а мы знаем свою цель. Сэмми, вы следующий. Попрошу тишины, товарищи, слово товарищу Маунтджою.
Товарищ Маунтджой сделал очень краткий доклад. Если на то пошло, он так и не добился никаких отчетов от Молодежной коммунистической