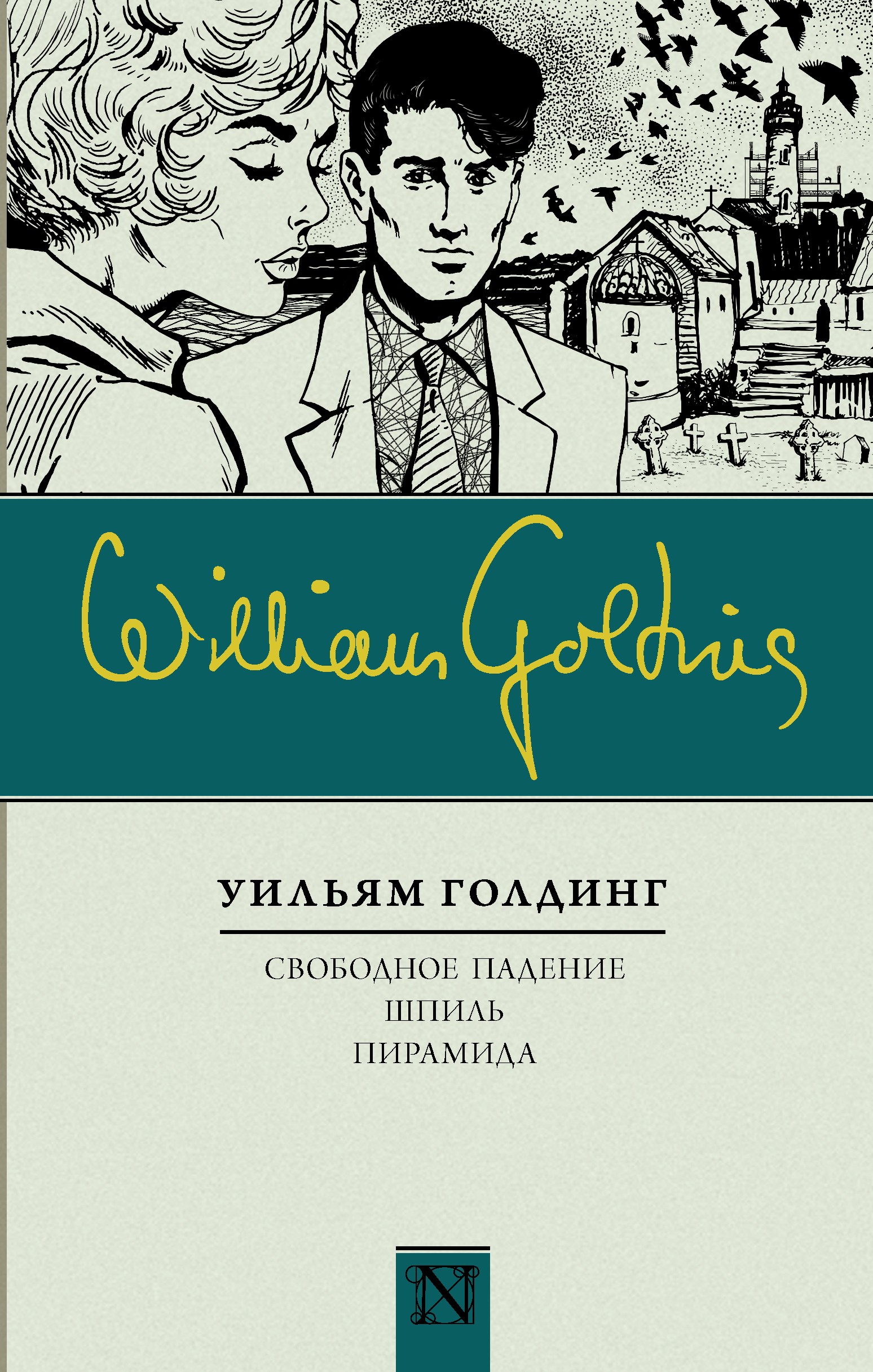сюда… чернорубашечники ему, коммунисты…
Он же смотрел на меня сквозь пивной туман с клинической беспристрастностью и отрешенностью, постукивая белым пальцем по своим лошадиным зубам.
– Слыхал про Диогена?
– Да уж куда нам…
– Он ходил с фонарем. Все искал честного человека.
– Ты что, специально хамишь? Я – честный. И товарищи мои тоже… Фашисты поганые.
Филип подался вперед и уставился мне в лицо.
– Больше всего на свете Дая интересует выпивка. А тебя, Сэмми, что больше всего интересует?
Я буркнул ответ.
Филип наваливался и орал чуть ли не в ухо:
– Что-что? Какая еще Беатриче?
– Ты сам-то чего хочешь?
Пьяный глаз порой столь же зорок, как и взгляд марафетчика. Только самое существенное. Филип был залит ярким светом. А я – переживающий свои собственные сомнения, свою алогичную и хромую судьбу, которую сейчас более или менее вздернуло на ноги горькое пиво, – я смог увидеть, отчего не пьет Филип. Бледный и веснушчатый, недобравший в каждой линии тела по милости вселенской скаредности, Филип берег себя. Что имею, то храню. Вот почему костлявые ладони, лицо по дешевке и скошенный – словно на него не хватило материала – лоб были ограждены от жертвования, были лишены природной щедрости самой же природой, были натянутыми и осведомленными.
Давайте-ка я опишу его таким, каким видел в тот миг: одет лучше меня, чище и опрятней – белая рубашка, неброский галстук на центральном плане. Он сидел ровно, не горбился; хребет как стержень. Руки на коленях, ноги вместе. Волосы… Странноватой, неопределенной фактуры: растут во все стороны, но до того тонкие и некрепкие, что скорее напоминают изношенный половичок, облепивший голову. И настолько бесцветные, что линию поросли на скошенном лбу определяли крупные, светлые веснушки. Глаза водянисто-голубые и до странности обнаженные в электрическом свете – потому что у Филипа не было ни бровей, ни ресниц. Пардон, мадам, но за такую цену мы их не поставляем. Чисто утилитарная модель. Нос прилеплен щедрой рукой, но при этом какой-то оплывший, а силы сфинктерных мышц вокруг ротового отверстия хватало лишь на то, чтобы его запирать. Ну а как насчет мужчины, что жил внутри? Как насчет того мальчика? С ним я устраивал махинации по добыче вкладных картинок, боролся в темном храме… а он меня надувал и валтузил. Я принял его дружбу, когда отчаянно нуждался в друге.
Ну а мужчина?
Он умел улыбаться. Именно это сейчас и демонстрировал сосредоточенной конвульсией своего ротового жома.
– Чего хочешь ты, Филип?
– Я тебе уже сказал.
Он поднялся и стал натягивать дождевик. Я хотел было предложить ему проводить меня до дому, потому как начинал сомневаться, что сумею попасть туда сам, однако он упредил мой непрозвучавший намек:
– Не утруждайся, до метро я и так доберусь. Я спешу. Вот конверт с моим адресом. Не забудь: время от времени сообщай, как идут дела в вашей ячейке. Какое настроение у людей.
– Да на кой черт тебе это надо?
Филип оттянул на себя дверь.
– На кой черт? Я… я инспектирую политическую кухню.
– «Честный