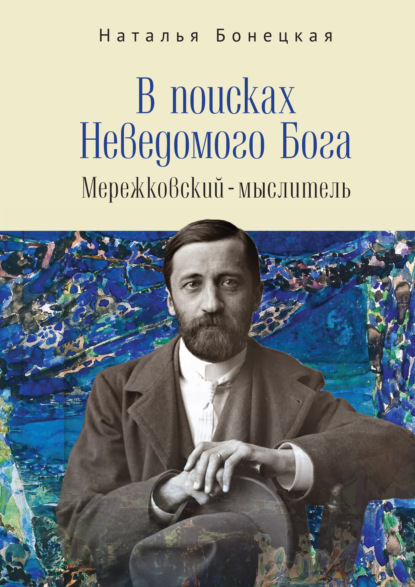предания: «Первая и последняя глубина учения Христова, заслоненного историческим христианством – «солью, переставшею быть соленою», нам все еще не открылась»[40]. Позднее Вяч. Иванов, именно вслед за Мережковским «примирявший» уже не только в теории, но и в практике башенных радений Христа с Дионисом и Люцифером, вещал перед своими почитателями о том, что «Евангелие еще не прочитано»[41]. Вообще для русской мысли Серебряного века – философии? богословия (Г. Флоровский)? герменевтики наконец? – Христос – это «Иисус Неизвестный». Так Мережковский назвал свой собственно экзегетический труд начала 1930-х годов. Однако и ранние его книги наполнены многочисленными экзегетическими вставками. Новозаветная весть, по словам Мережковского, эпатирует, потрясает человека: «Есть ли вообще другая религия с большими загадками и соблазнами?» – намекает он на эзотеричность канонических книг. Вспоминается представление о «скандальном» характере евангельского «провозвестия» – «керигмы» Р. Бультмана, имя которого здесь нелишне упомянуть. Друг и собеседник Хайдеггера в начале 1920-х годов, этот протестантский богослов причастен к возрождению герменевтической мысли…
«Революционность» интерпретации Нового Завета Мережковским в том, что уже в Евангелиях ему видится воскресший Христос Откровения, – Бог, вернувшийся на землю во славе. «Тёмный Лик» (Розанов) церковного Христа его отталкивает: евангельский Иисус почему-то кажется ему «воплощенным «веселием сердца», и все вокруг него были веселы, пьяны от веселия»[42]. При этом своего апофеоза веселие достигает на Голгофе, понимаемой новейшим экзегетом в качестве трагедии в смысле Ницше. А именно, речь идет о «радости бытия, включающей в себя и радость уничтожения», о «страшном оргийном «веселии»», о «воли жизни» – воле, утверждающей жизнь «в самых ее темных и жестоких загадках»[43]. Ученики Христовы в их переживаниях уподобляются при этом «сладострастно-девственным вакханкам», сам же Христос отождествляется с Дионисом, «учителем» Ницше. В языческом ключе трактуются и последние богословские основы Евангелия, когда Бога Мережковский подменяет языческим роком, а любовь Сына к Отцу – ницшеанской «amor fati»: ««Любовь к року» не есть ли самое внутреннее существо Героя последней и величайшей трагедии <…>?»[44].
«Революционная» экзегетика Мережковского-темаособого обширного исследования. В связи с нашей проблематикой укажем лишь на его толкование отдельных пунктов Евангелия. Интересно, что Рождество Мережковский исключал из события собственно Боговоплощения – Бог, в его интерпретации, соединился с человеком Иисусом только в момент Его крещения на Иордане. Об этом мыслитель сообщает в велеречивых выражениях, характерных для книги «Иисус Неизвестный»: «В этот-то молнийный миг и поколебались силы небесные, длани Серафимов наклонили ось мира, солнце вступило в равноденственную точку, – и Христос вошел в мир»[45]. Возрождая древнюю ересь Нестория, Мережковский,