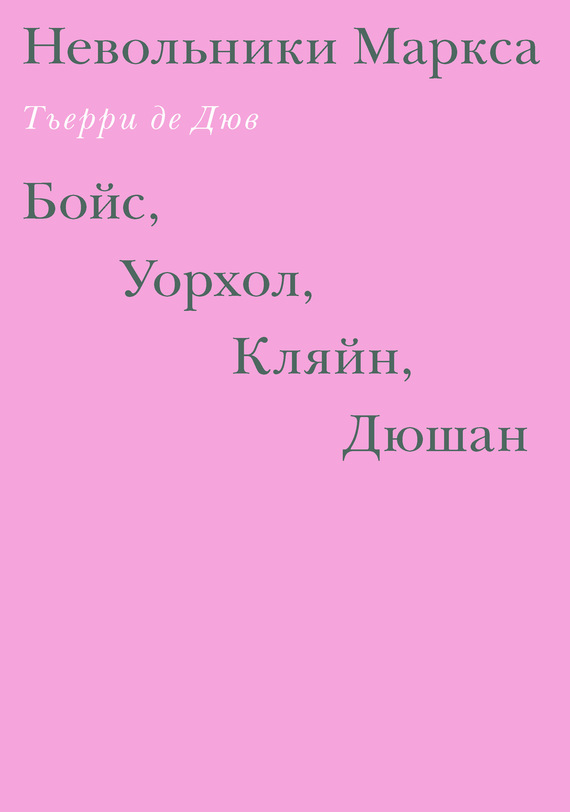или авангардисты (во всяком случае те из них, кто безусловно претендовал на звание таковых) выступили свидетелями этого требования в самом сильном смысле слова – воплощая пролетария в себе. Очевидно, что в этом не было ничего общего с идеологической постановкой художника на пролетарские позиции – случаи совпадения одного с другим известны, но остаются исключениями, – как не было и противоречия с его объективным экономическим положением, куда более родственным положению мелкого предпринимателя, чем наемного рабочего. Ведь с субъективной точки зрения художник-модернист – это пролетарий par excellence, так как режим частной собственности принуждает его поставлять на художественный рынок вещи, существующие далее в качестве товаров, но, чтобы обладать какой-либо эстетической ценностью, обязанные быть произведениями, своего рода экстрактами, его рабочей силы и, по возможности, только ее. Даже буржуазная концепция искусства, которая одной (рыночной) рукой «овеществляет» произведение, другой (эстетической) рукой выносит о нем суждение, чтобы в нем выявилась та способность порождать ценность[9], условием подлинности которой является ее уникальность для художника и потенциальная общезначимость для всех остальных, то есть ее глубокая укорененность в природе художника как индивида, человека, вообще.
Маркс называет эту универсальную способность производства ценности рабочей силой, а Бойс – креативностью. Разумеется, он не первым дал ей это имя. Скорее наоборот, он был последним, кто называл ее так с убежденностью. Искусство Бойса, его высказывания, его позиция и, главное, его двуликий образ мученика и утописта складываются в лебединую песню креативности, величайшего из модернистских мифов. Стоя, как он сам говорил, на пороге «конца модерна», Бойс и в самом деле был его провожатым, но постмодерн, чьи двери он надеялся открыть, грозил мраком смерти. Ибо главным качеством этого трагически-оптимистического Януса была патетика: оба его лица смотрели назад, за опускавшийся им занавес модерна. Иначе и быть не могло, ведь, проповедуя креативность, Бойс звал к тому же самому, что без конца обещал, на что без конца надеялся, уповал – как на свою грядущую эмансипацию, освобождение – модернизм. «Каждый человек – художник»: так говорил уже Рембо, так думал уже Новалис. Вновь провозглашали этот лозунг, писали его на стенах в Париже, в Калифорнии, под боком у Бойса в Дюссельдорфе студенты 1968-го. И всегда, со времен немецких романтиков, он означал: «Власть – воображению!» Реальностью, по крайней мере в этом смысле, он так и не стал, и тем не менее во всех выражениях воли к эмансипации и желания преодолеть отчуждение, какие только имели место в XIX и XX веках, неизменно читается: каждый человек – художник, однако актуализировать этот потенциал не под силу массам, подверженным угнетению, отчуждению и эксплуатации, и только те немногие, кого по глупому недоразумению называют профессиональными художниками, понимают, что их призвание