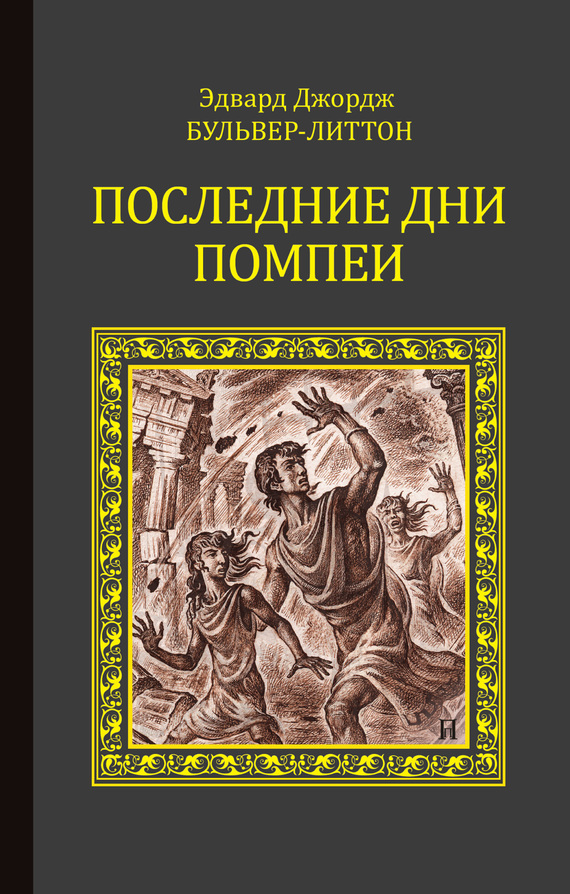легкую кровлю, свешивались белые драпировки, усеянные золотыми звездами. По обоим концам зала били вверх струи фонтанов, сверкавших при розоватом свете, как бесчисленные алмазы. Когда жрец и египтянин вошли в зал, из середины с пола немедленно поднялся, при звуках невидимой музыки, стол, уставленный самыми изысканными блюдами и вазами, изделиями исчезнувшей миррской фабрики[9], самых ярких красок и прозрачнейшего материала, наполненными редкими, экзотическими растениями Востока. Ложа вокруг стола были покрыты тканями цвета лазури, затканными золотом.
Из невидимых трубочек в сводчатом потолке сыпались брызги душистой воды, приятно освежая воздух и споря с лампами, как будто духи воды и огня состязались между собой – которая из стихий распространит более приятное благоухание. И вот из-за белоснежных драпировок показались красавицы, подобные тем, каких созерцал Адонис, покоясь в объятиях Венеры. Одни несли гирлянды, другие лиры. Они окружили юношу и повели его к столу. Они опутали его гирляндами, как розовыми цепями. Душа его отрешилась от земли и земных помыслов. Он вообразил, что это сон, и затаил дыхание, боясь проснуться слишком скоро. Чувственность, которой он никогда еще не отдавался, пробудилась в нем. Пульс его ускоренно забился, в глазах помутилось. И в то время, как он был погружен в восторг и немое изумление, снова раздалась волшебная музыка, на этот раз в веселом, вакхическом темпе. Это была анакреонтическая песнь.
Когда пение замолкло, группа из трех дев, переплетенных гирляндой цветов и красотой своей способных пристыдить граций, которым они подражали, стали приближаться к нему плавными движениями ионийской ласки, подобные нереидам, озаренным лунным светом на желтых песках Эгейского берега, или тем девам, которых Цитерия обучала пляске к свадьбе своего сына с Психеей.
Приблизившись, они увенчали его чело гирляндой цветов. Одна из них, младшая, опустившись перед ним на колено, подала ему кубок, в котором сверкало и пенилось лесбосское вино. Юноша не сопротивлялся более, он схватил опьяняющий кубок, кровь закипела в его жилах. Он припал головой к груди нимфы, сидевшей возле него, и, обратив помутившийся взор на Арбака, о котором в первую минуту забыл в вихре удовольствия, он увидал его сидящим под балдахином, на другом конце стола, улыбкой поощряя юношу. Апекидес заметил, что он уже не таков, каким он видел его до сих пор, в темных, траурных одеждах, с суровым, торжественным выражением лица: теперь его величавая фигура была облечена в ослепительную белую одежду, сверкавшую золотом и драгоценными каменьями. Белые розы, перемешанные с изумрудами и яхонтами, образуя род тиары, увенчивали его кудри, черные, как вороново крыло. Казалось, он, как Улисс, приобрел вторую молодость: черты его утратили свою задумчивость и сияли красотой. Среди окружающих его прелестей он царил во всем блеске и благоволении олимпийского бога.
– Пей, веселись, наслаждайся, ученик мой! – сказал он. – Не стыдись своей молодости и страстности.