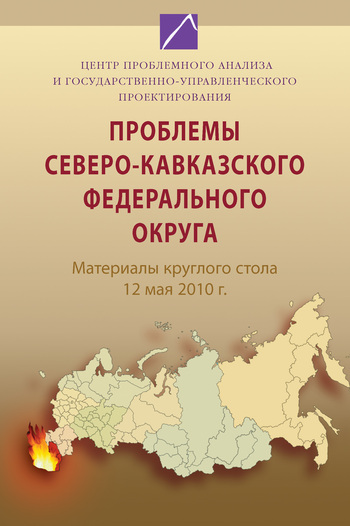этих различий посредством процедуры вычисления интегрального индекса. Но не путем произвольного подбора индикаторов, а на основе вычисления графа корелляций между исходными социально-экономическими индикаторами и выявления наиболее значимых из них. Но это уже отдельная исследовательская задача, которая не входит в наши планы.
Вот другой пример, касающийся политико-правовой подсистемы. Можно ли измерить различия в функционировании данной подсистемы в отдельных регионах? Да можно, попытавшись дать количественную оценку целому ряду качественных индикаторов: политической коррупции, влиянию субъективного фактора на функционирование политправовой системы и т. д. Даже различия в электоральном поведении дают нам основания для качественных оценок. К примеру, более 90–95 % проголосовавших на тех или иных федеральных выборах (Президента РФ, в Госдуму) в республиках Северного Кавказа – это, с одной стороны, косвенный индикатор силы административного ресурса. (Для сравнения, в «русских» субъектах Федерации этот показатель колеблется на уровне 60–70 %). С другой стороны, эти данные – косвенный индикатор индифферентности местных избирателей, проявляемой именно на федеральных выборах. Скрытый фактор здесь – особенности социальной структуры: урбанизация – на уровне не более 40–45 %, тогда как в других регионах страны – около 70 %; особенности политической культуры, отчужденной от общефедерального контекста. Совершенно иная картина наблюдается на муниципальных и республиканских выборах. В общем различия в функционировании политправовой подсистемы на блок-схеме модели общественной системы в России и на Северном Кавказе (см. приложение) отражены в виде соответствующего «зазора» (дистанции) между квадратиками для региона Северного Кавказа и страны в целом.
Аналогично и для государственных институтов социализации, социальной сферы и средств массовой коммуникации (СМК), а также полугосударственных (по факту) конфессиональных институтов, хотя по закону они – общественные организации. В регионе Северного Кавказа своя имеются развитая система СМК (пресса и ТВ на национальных языках), свой региональный компонент в сфере образования и культуры. И, наконец, есть своя, качественно отличная конфессиональная система. Специфика в функционировании этих институтов прямо вытекает из федеративных принципов. Последние призваны учитывать социокультурную (этническую и конфессиональную специфику политических и правовых традиций) особенность региона. Потому различия здесь ощутимы, а «зазор» между подсистемами в данном случае еще более значителен.
Теперь рассмотрим социокультурные подсистемы и тесно с ними связанные социальные структуры обществ в республиках Северного Кавказа (СК): как они влияют на другие подсистемы в местных обществах и в чем это влияние отражается? Можно ли собственно «развести» влияние внутренних и внешних факторов? Нам важно не опуститься до базарной склоки, когда одни видят главное зло во влиянии внешних факторов