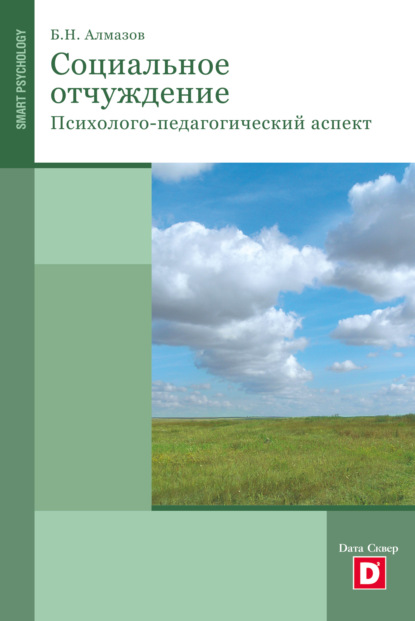громада, ведомая изящным, нежным принцем, готовая предать огню и тленью, что им подвластно, так, за скорлупку» – недоумевает Гамлет. Должно быть, «выдавить из себя» правило «servis not habet personam» – раб не имеет личности, очень непросто (А. П. Чехов, по его словам, делал это «по капле» всю жизнь, но удалось ли ему чего-то достичь, умолчал). Продолжая следовать версии А.Фоменко, мы вполне логично приходим к мысли, что именно в период раннего средневековья формировался однозначно представляемый разными народами образ носителя совести (безусловного альтруиста при максимальной возможности действовать в своих интересах), на что ушло по меньшей мере несколько веков, в течение которых тексты священного писания были доступны только узкому кругу посвященных. Такое отчуждение от местных традиций в пользу отвлеченного носителя нравственных начал, по-видимому, требовало некой глобализации в сфере духа. Всякая глобализация дается с трудом.
В Европе жило много народов, у каждого из них свои предки, а чужие предания, как известно, не указ. Понадобился образ, приемлемый для всех и каждого, некий общий предок, совершивший безусловный подвиг. Сын единого бога, в миру бродяга, чье величие не зависело ни от каких чинов, званий или иных преимуществ, – друг самого простого человека. Местом его земной жизни был объявлен пустырь за околицей Европы, превращенный воображением создателей мифа в землю обетованную. В качестве национальной принадлежности выбран народ, не имеющий территории проживания. Евреи обеспечивали торговые пути. Они взаимодействовали с разными народами, но не смешивались с ними и сохраняли свою идентичность каким-то неуловимым образом. О природе их национальной идентичности, позволяющей узнавать друг друга, проживая с рождения среди разных народов, до наших дней спорят без сколько-нибудь ясного результата. И такой выбор понятен. Если бы Христос был, например, французом, вряд ли немцы восприняли его всерьез.
Осталось обеспечить служителей культа языком, который был бы всем немного понятен, но не носил ничьей национальной окраски. Как известно, те, кто выучил латынь, легко усваивают несколько европейских языков, тогда как на латинском не говорит никто. Ближе всего он к греческому, чей народ жил в те годы на глухой окраине Европы и никакой роли в культуре не играл, будучи дремучим провинциалом. На создание священного писания ушло несколько веков, пока были согласованы тексты, выверены исторические легенды, подготовлены священнослужители. До этого читать на латыни их могли только сугубо посвященные, а переводить на местные языки категорически запрещалось.
Одновременно создавался миф об античной культуре, где рабовладельческий строй (прообраз крепостного) использовал частную собственность в своих интересах, от чего нравственно разложился и позорно пал, несмотря на военную мощь Римской империи (как известно, Рим не имеет аналогов в истории).
Во всяком случае, если о нравах рабовладельческого общества в далеком прошлом можно только