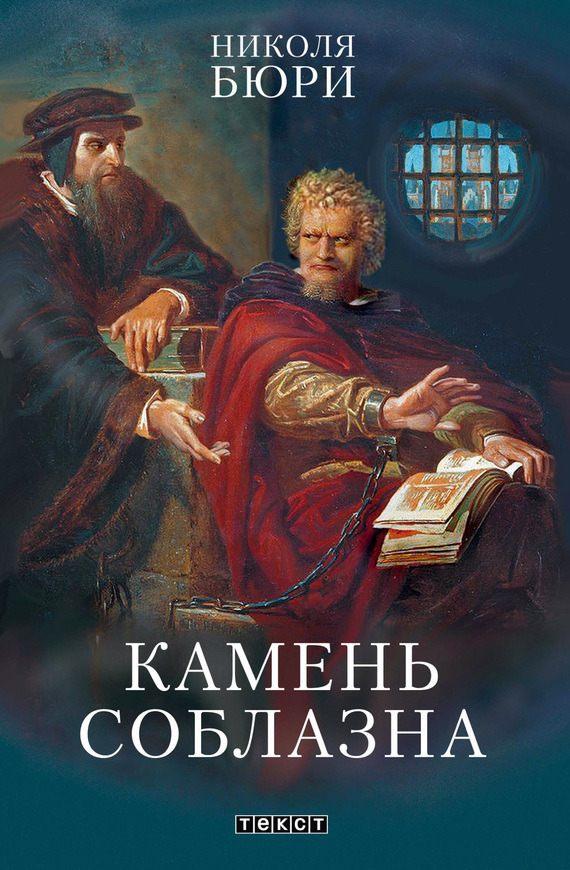палками. Видел хромого мальчика, который, как сказали мои товарищи, останется хромым на всю жизнь. Слышал рассказ о том, как профессор Пьер Тампет за пустячную провинность заставил ученика есть собственные экскременты до тех пор, пока тот не умер. Пьер Тампет, который через две недели вызвал меня к учительской кафедре читать наизусть из Фомы Аквинского. Голос мой был слаб и дрожал. Несколько раз Тампет приказывал мне начинать фразу заново. Он сказал, что мой пикардский выговор подобен слизи, пачкающей мысль великого ученого.
В конце концов я стал заикаться.
А Тампет хохотал.
По вечерам, когда я в одиночестве вычищал бадьи в отхожем месте, я декламировал отрывки из святого Фомы и, пытаясь избавиться от своего выговора, раз по пять произносил одну и ту же фразу.
Однажды вечером каноник схватил меня за шиворот.
– Ковен, принудительные работы выполняются молча!
Каноник дал мне сильный пинок под зад. Я встал и снова принялся за работу. Вернулся мыслями к Сенеке, чьи слова по-прежнему вертелись у меня в голове. Один из приятелей по общей комнате, Луи Террье, стал очень ценным товарищем. Он был лучшим латинистом в нашей стае. Он рассказал мне еще об одном сочинении философа под названием «О милосердии», а также о стоицизме. Там, где удары сыплются градом, стоицизм вполне может стать спасительной доской. Я решил раздобыть сочинение с таким привлекательным названием.
Однажды в июньский полдень, через два года после моего поступления в коллегию Монтегю, мой друг Луи и я сам удостоились высокого отличия. Впрочем, уже давно ходил слух, что кого-то из нас выберут для ответа на публичном уроке в присутствии князей Церкви. И назвали имена прелатов, нагнавшие на нас страху.
В связи с предстоящим уроком я подошел к двери кабинета, куда меня призвали, дабы предварительно расспросить. Открыл мне Беда. Исходивший от него кислый молочный запах вносил свою неприятную лепту в тяжелый и затхлый воздух. Блеклые глаза старого ректора глядели на меня сквозь щелочки прищура; некоторое время он стоял неподвижно, и только пальцы его пухлой ручки дергались, словно стремились попасть в ритм веселого мадригала. Внезапно он схватил меня за шиворот и медленно втащил внутрь. Свеча, закрепленная на чернильнице, источала слабый свет. Взгляд Беды был устремлен на раскрашенную деревянную статую святого Себастьяна. Кивая головой в сторону мученика, он, казалось, поддакивал ему. Тут под сенью статуи, куда не падал свет, я заметил некую личность.
– Давайте, Ноэль, покажите, на что он способен, вы же умеете, а мы посмотрим.
Голос был сладок, хотя в нем явственно звучали повелительные и даже настороженные интонации. Такой голос свидетельствовал о высокой должности своего обладателя. Я не видел стоящего в темноте, только его скрещенные на животе руки. Указательный палец на правой руке украшала массивная золотая печатка.
На этом собеседовании Ноэль Беда расспрашивал меня не только о вере, но и моей глубоко личной жизни. Начав с похвал, он резко, с необычным для него рвением, взял меня в оборот. Он заставил меня рассказать о моем