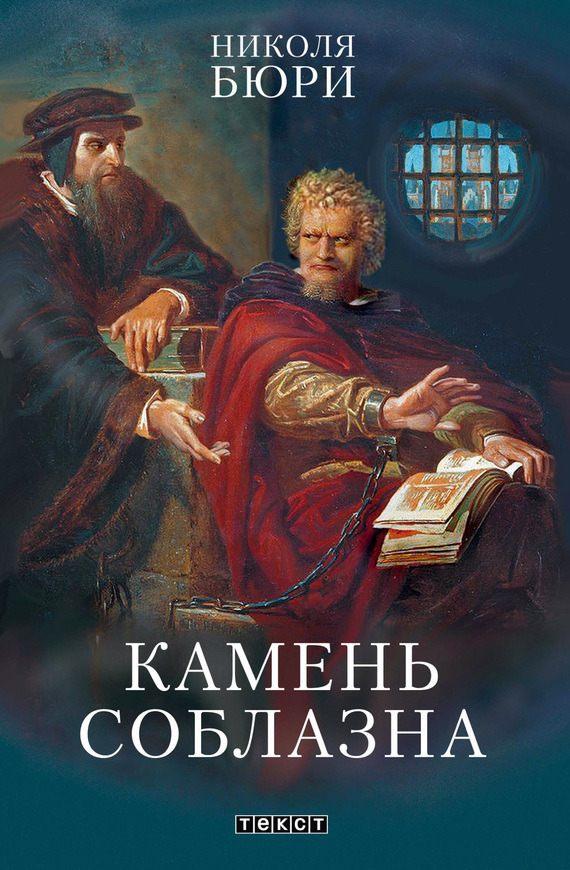удивительной. Придется драться.
Уверенный в молчании звезд, но довольный его поддержкой, я заснул. Ги сжимал меня в объятиях. И в своих грезах видел себя ментором чудесного кузена.
По дороге тек поток путешественников, возвращавшихся из Парижа и туда стремящихся. Я радовался, чувствуя себя одним из них. Моим вниманием завладели городские ворота. Ги положил мне руку на плечо:
– Жан, надо с чего-то начинать. Я тут поразмыслил. Ты будешь писать все, что потребуют от тебя парижане! Так мы сможем сравняться с местными и понять, что для нас хорошо. Но сначала позабавимся!
Потрясенный своим вступлением в Париж, шатаясь от усталости, я все еще не сказал Ги, что его власть надо мной простиралась только на время путешествия. И позволял подшучивать над собой. На самом деле наша первая ночь в Париже оказалась беспорядочной и бессмысленной. Торговки рыбой, предложившие угостить нас, потащили нас на усыпанный ошметками задний двор. Там у них хранился сом, огромный, словно свинья; они разделали его ржавым ножом. Затем принялись жарить на огне толстые куски. Обращаясь с нами как с птенцами, они кормили нас изо рта в рот и поили спиртным из перебродившей картошки. Спиртное примирило меня со вкусом сома, от которого несло тиной и тянуло рвать. Подмигивая и прищелкивая языком, жирная бесформенная девица попыталась увлечь меня за собой. Ги отодрал меня от нее и вместе с ней исчез.
Голова сома, раззявив к небу пасть, плавилась на угольях. Вернувшись, девица расставила ноги над останками сома и принялась греть свою пещерку. Это зрелище заворожило меня. Мохнатка, писающая в дыру ада! Сатана, плюющий в вертоград! Я побледнел и отошел. Другие вскоре присоединились ко мне.
Мы пошли в таверну, где клирики угостили нас молодым вином. Выйдя на улицу, Ги и еще кто-то сплясали на телеге, возившей сено. Очутившись с наступлением ночи на берегу Сены, мы расхохотались. Никогда еще я столько не бегал, не пользовался ногами, не отмахивал расстояний, не видел столько домов, не испытывал столько страха, столько не смеялся, не пил, не ел и не блевал. Пьяный, я едва держался на ногах. Ги обнял меня:
– Вот видишь, мы веселимся.
От пьянки у меня в памяти осталась череда жутких скорченных рож. Прошло три дня. Я ощущал себя больным, грязным и опозоренным. Я много спал, отчего чувствовал себя виноватым. Дал себе обещание корпеть над учебой еще усерднее, чем в Нуайоне, но подхваченный парижским вихрем постоянно откладывал момент примерки на себя устава коллегии Монтегю. Я бродил в поисках очагов знания и новых идей, которых, судя по всему, тут куры не клевали. Так однажды я завернул во двор харчевни «Золотая голова», где, как говорили, можно было познакомиться с суждениями в высшей степени отвлеченными. Под деревом сидел Матюрен Кордье и рассуждал, как и полагалось философу. Высокий, худой, сгорбленный, с поседевшими висками, лукавым взором и вкрадчивым голосом, он умело сплетал слова и полностью завладел вниманием своих молодых слушателей. Время от времени кто-нибудь из учеников