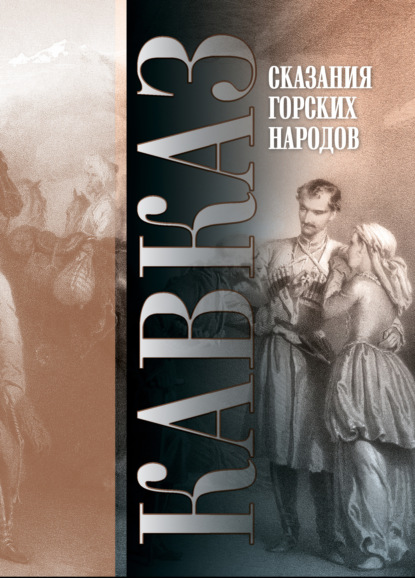помчался навстречу крымским ордам, и следом за ним с криком и воем устремилось войско, и от топота конских копыт задрожала земля, тяжелым гулом наполнилась степь и тучи пыли поднялись над ней.
Как громадная стена, твердая и непоколебимая, двигались крымцы.
Налетели кабардинцы, смяли их передние ряды, но врубиться в средину войска им не удалось: слишком много было его, и на смену одного убитого крымца являлось десять новых. И подобно лавине, которая летом срывается с ледников Ошхамахо, навалилась дикая орда на кабардинцев, и дрогнули они, пришли в замешательство, начали отступать, пока не обратились в бегство. И было бегство позорным, никогда не виданным в Кабарде, и не перенес этого позора весь израненный, истекающий кровью чекуок Батырбек, и в отчаянии заколол себя кинжалом.
А хан, не останавливаясь, шел дальше и на другой день разбил кабардинцев около горы Бештау, потом продвинулся к реке Баксан и сжег многие из кабардинских аулов.
Кабардинские князья изъявили ему покорность и обязались платить ежегодно дань хлебным зерном, медом, рогатым скотом, лошадьми и людьми – по одному человеку с каждого аула.
Возвращался хан домой той же дорогой, которой пришел в аул, и отдохнуть остановился близ бештаугорских аулов.
И здесь князья изъявили ему свою покорность и дань назначенную обязались давать вовремя.
И кабардинский народ с рабскою покорностью принял на себя ханское иго.
Только в одном ауле молодой холоп Машуко не хотел давать дани.
– Пока я держу кинжал в руке, до тех пор Каплан-Гирей ни одного зернышка просяного не получит от меня, одной шерстинки со своей коровы я не дам ему.
Соседи смеялись над ним.
– Какой ты богатырь! – говорили они. – Хан и спрашивать тебя не станет, а возьмет из твоего имущества то, что ему понравится. Захочет – и будешь ты раб его, а сестру твою, красавицу Элисхан, возьмет себе в наложницы.
– Только мертвым мной хан может распорядиться! – отвечал Машуко. – Про сестру я ничего не скажу: она взрослая, есть у нее свой ум, и вольна она поступать, как хочет.
И продолжал потом:
– Это князья и уздени, как собаки, виляют перед ним хвостом. Но я не таков!
Один холоп, желая выслужиться перед своим князем, пошел донести ему на Машуко.
Узнал об этом Машуко, поспешно побежал в свою саклю, взял винтовку и сказал Элисхан:
– Пойдем, сестра, в горы: там ты свободна будешь.
Жаль стало Элисхан покинуть саклю, расстаться с коровой, козой, страшилась она голодной жизни в горах.
– Нет, Машуко, не пойду я с тобой, – сказала она. – Подобно волку придется жить в лесу…
– Но лучше быть голодным волком на свободе, чем сытой собакой на цепи, – заметил Машуко.
Покачала головой Элисхан.
– Нет, – сказала она решительно, – не пойду с тобой.
Рассердился Машуко.
– Хеть махо к’дыкя! (Буквально: «В собачий день родилась!») – выругался он и вышел на двор.
Была в ауле девушка, Хариса-холопка, которую тайно любил Машуко, и от этой любви ребенок – мальчик